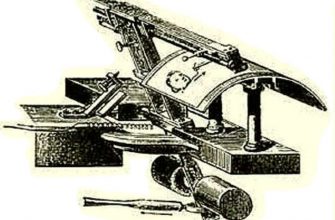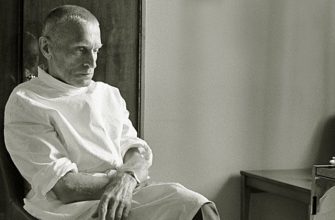«Город — это люди, а не стены», — утверждал великий историк Фукидид. Для древних греков и впрямь было так. Античный полис представлял автономную гражданскую общину, связанную общими интересами. Главнейшим из них являлась необходимость охранять имущество от чужих посягательств.
«Город — это люди, а не стены», — утверждал великий историк Фукидид. Для древних греков и впрямь было так. Античный полис представлял автономную гражданскую общину, связанную общими интересами. Главнейшим из них являлась необходимость охранять имущество от чужих посягательств.
Естественным решением было возведение стен. Недаром по-русски само слово «город» в древности означало попросту «огороженное место». Все это достаточно очевидно, но нет занятия более увлекательного, чем рассматривать очевидные вещи под непривычным углом. Обратимся к Библейской истории. Книга Бытия свидетельствует, что создателем первого города был, не кто иной, как братоубийца Каин. Получается, сам факт возведения города был актом богоборчества: Каин, приговоренный Господом к вечному скитанию, осмелился осесть на одном месте. Огородившись стенами.
Но зачем изгнаннику понадобились эти стены? Защищаться ему было не от кого: Всевышний счел, что смерть стала бы для него слишком легким наказанием. Тем не менее, город был построен, и – согласно Писанию – его обитатели, потомки Каина обучили людей искусствам и ремеслам. То есть, Каин и каиниты выполнили в Библейской истории роль, аналогичную подвигу Прометея в греческой мифологии. От них следует отсчитывать то, что мы привычно именуем «прогрессом». По крайней мере – в его материальной части.
Получается, что стены, которыми был обнесен первый город, служили вовсе не защитой от внешней агрессии. Скорее, способствовали тому, чтобы в отгородившихся от внешнего мира людях пробудилась творческая энергия. По подобному принципу – уже в наше время – создаются всевозможные наукограды. Если мысль верна, то стены – сами по себе – важнее людей, населявших их в прошлом и заполняющих ныне. Пресловутый «гений места» (Genius loci) и впрямь пробуждает дремлющие в человеке таланты и способствует их раскрытию. Дело даже не в незримых эманациях, которыми пропитаны старинные камни – их восприятие, по сути, лишь вопрос личного воображения. Зато сконцентрированные в замкнутом пространстве достижения предшественников способны подтолкнуть человека к стремлению обустроить это пространство лучше – разумнее, красивее, удобнее. Пробудить дух соревнования, без которого развитие невозможно.
Ныне, говоря о городе, мы подразумеваем исключительно недвижимость – совокупность архитектурных памятников, учреждений и предприятий. Город – константа, а его обитатели – величина переменная. Они вольны приезжать и уезжать, умирать и рождаться – облик города меняется незначительно. Не так было в античности, когда полис впрямь представлял собой совокупностью граждан, а изгнание из него являлось самым страшным наказанием. Так все-таки что в большей степени способствует раскрытию в человеке творческих способностей: люди или стены?
Всё вышеизложенное – преамбула к рассказу об одном из поразительнейших древних городов на территории нашей страны. История которого, естественно, не обошлась без участия вездесущих итальянцев.
Речь о Танаисе – городе столь легендарном, что сам факт его существования долго находился под вопросом. Возможность обнаружения Танаиса представлялась не менее фантастической, чем открытие Гомеровской Трои. Причина скепсиса легко объяснима: на том самом месте, где, согласно греческим авторам, должен был находиться Танаис, более века существовала генуэзская колония Тана – и никаких следов древних поселений обнаружено не было.
Но если многие детали Гомеровского мира – даже после открытия Трои – являются достоянием мифологии, то авторитетное свидетельство о Танаисе оставил «отец географии» Страбон. Он именовал его самым большим после столицы Боспорского царства Пантикапея (нынешняя Керчь), «торжищем варваров». Танаис был северным форпостом греческого мира, здесь пролегала граница между античной цивилизацией и землями варваров. Это был самый крупный торговый центр Северного Причерноморья и Меотиды (Азовского моря). Свое имя город получил по названию великой реки Танаис – так в древности именовали Дон.
Восприятие Дона как разделительной черты между известным миром цивилизованных людей и степью было унаследовано древними римлянами. Тем не менее, венецианцы, основавшие в конце XII века в устье Дона свою колонию, никаких древних стен не нашли. Строительство пришлось начинать заново.
В 1204 году Тана перешла в руки генуэзцев. Следуя координатам, содержащимся в трудах Птолемея, они искали руины греческого города – просто, чтобы использовать их в качестве строительного материала – но тщетно. Причина в том, что за столетия русло Дона сместилось. Река, которую греки именовали Танаисом, ныне является одним из рукавов дельты Дона – Мертвым Донцом. Современный же Дон во времена Птолемея и Страбона был лишь Гиргисом – одним из притоков Танаиса. Генуэзцы попросту не там искали – местоположение города менялось вслед за изменениями речного русла. Лишь в 1823 году археолог Иван Алексеевич Стемпковский (будущий Керченский градоначальник) наткнулся в зарослях возле хутора Недвиговки на странные «окопы», оказавшиеся остатками древних укреплений. С тех пор здесь не раз проводились раскопки, а в 1961 году был открыт один из первых в России археологический музей-заповедник с общей площадью свыше трех тысяч гектаров.
Получается, в случае Танаиса мы имеем дело с «перемещающимся» городом. Он был основан в III веке до нашей эры выходцами из Боспорского царства. Столетиями танаиты вели борьбу за независимость от метрополии. Страбон упоминает о разрушении города царем Полемоном «за неповиновение» в период между 14-м и 8-м годами до н.э. Танаис восстановился быстро, а в I—II веках достиг наивысшего расцвета. Отсюда к столу римской знати доставляли баснословно дорогую рыбу – осетрину и стерлядь. Ту самую, по поводу которой несгибаемый Катон заявлял: «Городу, в котором рыба стоит дороже упряжного вола, уже ничем не помочь!»
Но Танаис жил не только торговлей и рыболовством. Здесь процветало единственное в Причерноморье стекольное производство. Развитию ремесел способствовало смешение этносов, обусловленное пограничным положением города. В едином плавильном котле перемешались греки, сарматы, евреи и меотийцы. В итоге сложился оригинальный стиль городской жизни, опиравшийся на содружество религиозно-общественных союзов, «фиасов». Сложилось и подобие самобытной местной религии – культ Высочайшего Бога, схожего одновременно и с Зевсом-Юпитером, и с еврейским Яхве, и с фракийским Сабазием. Конец этой идиллии настал в 237 году, когда Танаис был до основания разрушен нашествием готов. Полтора столетия спустя сарматские племена предприняли попытку возрождения города – но русло реки уже сместилось, и к началу V века Танаис настигло окончательное запустение.
В конце XII века на этих берегах появились итальянцы. Сначала венецианцы, а потом генуэзцы основали факторию на основном рукаве тогдашнего устья Дона, ныне именующемся Старый Дон. Тана – возрожденный Танаис – представляла собой военно-торговую крепость. Здесь жили воины, купцы и моряки, исключительно мужчины – женщин находили за городской стеной. Самым доходным занятием была работорговля. Рабы (татары и славяне, известные у арабов как «сакалиба», а на Западе как «белые татары») продавались на рынках Таны для всего Средиземноморья: от Египта до Испании.
А за стенами города бурлили кочевые племена: тюрки, печенеги, половцы, а позже – пришедшие им на смену монголы. Изворотливые генуэзцы сумели найти общий язык с правителями Золотой Орды – формально город находился на их территории, но пользовался широчайшей автономией. Приблизительно, как современный Гонконг в составе Китая.
Увы, генуэзцы позволили втянуть себя во внутриордынские усобицы – и жестоко за них поплатились. В 1395 году войска Тамерлана сровняли город с землей. Тану удалось восстановить, но ненадолго. В 1475 году город был захвачен и вновь разрушен турками. Во времена Османской Империи здесь возник город Азов – тот самый, за который яростно сражались сначала запорожские, а потом и донские казаки. Взятие этого укреплённого форпоста стало первой победой Петра Великого, открывшей России путь в Черное море.
По иронии судьбы, ударной силой флота, созданного Петром для Азовского похода, стали баркалоны – парусно-гребные суда, имевшие одну мачту с косым парусом, и способные нести до десятка пушек. Удачные копии с генуэзских аналогов (название происходит от barca longo, «длинная барка»). Так что символический реванш над турками итальянцы все-таки одержали.
Вопрос, сформулированный в начале данного очерка, звучал так: стены или люди составляют сущность города? Пример Танаиса – неоднократно менявшего не только обитателей, но и местоположение – свидетельствует, что дело в чем-то ином. Греки, переселившиеся на самый край ведомой им ойкумены, сумели ужиться с местным населением и заложили основы талассократической цивилизации, которую, полтора тысячелетия спустя, подхватила в точности такая же генуэзская талассократия. Новый город был основан в ином месте – но, похоже, пресловутый “Genius loci” вовсе не привязан к какой-то определенной точке – и способен, при необходимости, перемещаться. Недаром в поэме Вергилия он изображен в виде доброго, «не причиняющего вреда», змея.
Уникальный музей Танаиса возник благодаря усилиям не только археологов, но и поэтов. И здесь же, в земле, усеянной генуэзскими монетами и черепками античных амфор, нашли последний приют лучшие из авторов «Заозерной школы» – легендарный бард Геннадий Жуков и поэт Виталий Калашников. Сумевшие – полтысячелетия спустя – возродить силой букв, в стихах, дух древнегреческого и генуэзского Танаиса. Поэтому, в рассуждениях о природе города, возможно, стоит отказаться от восходящей к Писанию модели линейного прогресса и согласиться с Фукидидом. Люди всегда важнее стен – сколь бы величественны и несокрушимы эти стены ни были. Не зря, комментируя строку Вергилия о Genius loci, знаменитый римский грамматик Мавр Сервий Гонорат подытожил: «Ибо нет места без гения» (Nullus enim locus sine genio est).