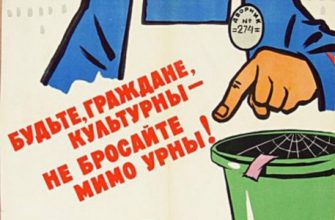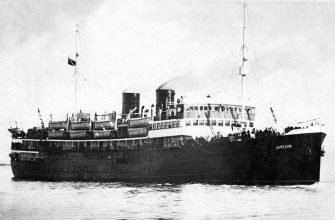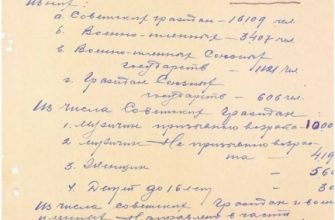Бывают моменты истории, концентрирующие в себе целые десятилетия. 19 сентября 1978 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев выехал на поезде из Москвы в Баку для участия в некоем рядовом мероприятии, которое давно уже никого не интересует. Но поздно вечером того же дня состав остановился в Минеральных Водах. И эта ничего не значащая церемониальная остановка, в ходе которой местный секретарь крайкома должен был засвидетельствовать почтение партийному лидеру, приобрела спустя годы мистическое значение.
Секретарем ставропольского крайкома КПСС был тогда Михаил Горбачев. Не пройдет и семи лет, как он сменит Брежнева на посту генсека. Впрочем, за этот короткий промежуток времени высший партийный пост побывает в руках еще двух человек – Юрия Андропова и Константина Черненко. Что любопытно, оба они в тот мистический вечер присутствовали в Минводах. Глава госбезопасности прибыл подлечится в санаторий в кисловодске москва несколькими неделями ранее и отдыхал на местных курортах и не мог упустить возможности лично представить Горбачева – своего молодого протеже – хозяину страны. А верный Устиныч, как обычно, сопровождал хозяина в поездке.
По воспоминаниям Горбачева, встреча четырех генсеков – одного действующего и трех будущих – была бессодержательной. Брежнев, уже начавший превращаться из жизнелюба и сибарита в несчастную полуживую мумию, больше думал о своем здоровье, нежели о делах Ставропольского края. Вялый Черненко, судя по всему, не думал ни о чем. Хитрый Андропов умышленно предоставлял инициативу Горбачеву. Сам же Горбачев – наверное, с непривычки несколько робевший – так и не смог расшевелить беседой престарелого генсека.
А ведь если б в тот теплый кавказский вечер людям, медленно прогуливавшимся по перрону вокзала, открылось вдруг будущее, беседа наверняка перешла бы на повышенные тона. Жизнь страны, тупо дремавшей осенью 1978 г., спустя несколько лет кардинальным образом переменилась и пошла по тому сценарию, который в полной мере не устраивал ни одного из высокопоставленных “сценаристов”.
“Борьба хорошего с лучшим”
Была ли у страны альтернатива? На этот вопрос часто пытались отвечать в конце 80-х – начале 90-х гг. Но сегодня, 20 лет спустя после того, как Горбачев начал перестройку, мы можем взглянуть на ту эпоху другими глазами.
Начнем с брежневского курса. В период переосмысления застойного режима сложилось мнение, что никакого курса, в общем-то, и не было. Дела шли самотеком, экономика перестала быть экономной, общество погружалось в бездну цинизма, а перевалившая за пенсионный рубеж верхушка уже готовилась к той “гонке на лафетах”, которая началась в декабре 1980 г. со смерти председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина.
Согласимся, пожалуй, с мыслью об отсутствии сознательно избранного курса. То, что беззубые брежневские писания объединялись в многочисленные тома, названные (как бы по иронии) “Ленинским курсом”, лишь подчеркивало неясность видения перспектив. Но общество обладает удивительной способностью к самоорганизации, а потому часто живет совсем не той жизнью, которая “спускается” ему сверху в виде официально провозглашенной доктрины. И в этом смысле “ленинский курс” Брежнева можно считать реальной альтернативой горбачевской перестройке.
Леонид Ильич жил сам и давал жить другим. Во всяком случае, тем, кто знал, как ухватить судьбу за хвост.
Помыкавшийся в войну на Малой земле, прошедший через трудности послевоенного Возрождения, с грехом пополам освоивший Целину, а самое главное, уцелевший в годы сталинских репрессий, Ильич-второй на дух не переносил экстремизма Ильича-первого и тем более Иосифа Виссарионовича. Достигнув к старости высшего государственного поста, прихлопнув в лице Никиты Хрущева ненавистный волюнтаризм и перехитрив прямолинейного сталиниста Александра Шелепина (железного Шурика), Брежнев с энтузиазмом предался радостям жизни.
В политике Ильич отдал свою душу миротворчеству, и хотя на его совести – подавление Пражской весны, а также вторжение в Афганистан, следует все же признать, что генсек в целом оказался стариком незлобивым (во всяком случае, по советским меркам). ГУЛАГ, психушки, запреты на выезд из страны были, скорее, не зовом его души, а элементами системы, которую он воспринимал как должное со свойственным всякому сибариту цинизмом. Мол, если кто нарывается, сам не живет и другим не дает, так пусть пеняет на себя.
Аскетов Брежнев не любил. Говорят, однажды на политбюро генсек в шутку предложил скинуться на новое пальто Суслову. Старое явно утратило должную чистоту, пока верховный идеолог боролся за чистоту партийных рядов. Но вот что Брежнев любил, так это дачу, охоту, хорошую еду, дорогие иномарки, зарубежные боевики. И, конечно же, всевозможные знаки отличия, компенсирующие природную нехватку воли и самоуважения. Словом, Брежнев любил все то, что впоследствии стало атрибутами новых русских – жизнелюбов-середнячков, не претендующих на превращение в олигархов.
Дочь генсека, Галина Леонидовна, любила бриллианты, а также артистов больших и малых императорских театров (если не на сцене, то, во всяком случае, в своей постели). Друзья и родственники генсека, не слишком скрываясь, покровительствовали зарождающейся советской мафии, беря за это откат, который толком еще не знали, как употребить с пользой для дела и тела.
Партноменклатура 70-х гг. активно приспосабливалась к новым правилам, при которых от нее не требовали слишком многого, зато давали столько, сколько ей с лихвой хватало по скромным меркам закрытого общества, не познавшего еще разгула времен семибанкирщины 90-х гг.
Что же касается номенклатуры комсомольской, то она смотрела даже дальше, нежели отцы и деды, считавшие желанной роскошью возможность свободно помыкать холуями, не опасаясь порки со стороны вождя. Комсомольцы начинали ездить по миру, обзаводиться имуществом, держать фигу в кармане и готовиться к той эпохе, при которой эту фигу можно будет открыто показать вскормившей их системе.
Конечно, кроме чад, домочадцев и номенклатурщиков разных мастей, в советском обществе имелся еще народ. Но его Брежнев видел лишь два раза в год по большим рабоче-крестьянским праздникам. Да и то лишь с трибуны мавзолея. Люди сливались для него в безликую толпу, над которой отдельными доминантами возвышались лишь его собственные портреты. Чаяния народные оставались для генсека трудноуловимыми, а потому таким народом вполне можно было пренебречь.
В принципе, эта система отличалась целостностью. Хотя возможности для продвижения вверх и обновления элиты были сильно ограничены, эпоха застоя давала шанс войти в состав номенклатуры тем, кто играл по ее правилам. Для этого уже не требовалось рисковать собственной жизнью или участвовать в репрессиях по отношению к другим. Молодые советские яппи тысячами пробивались на свет в райкомах, академических институтах, внешнеторговых организациях. Они были довольны судьбой и не сильно мучались экзистенциальными проблемами, донимавшими творческую интеллигенцию, стремившуюся почему-то жить не по лжи.
Могла ли система пережить Брежнева? Могла ли она просуществовать еще годы, а то и десятилетия, если бы судьба отпустила больше здоровья не имевшему никаких собственных взглядов тов. Черненко или если бы на смену Константину Устиновичу пришел, скажем, Виктор Гришин?
Конечно, могла, поскольку, в отличие от систем Сталина и Хрущева, в целом была сравнительно приемлемой. В 1953 г., когда решалась судьба сталинизма, вся элита чувствовала себя незащищенной, а потому готова была рискнуть, вступив в схватку с Лаврентием Берией. В 1964 г., когда решалась судьба оттепели, элита опасалась непредсказуемых последствий хрущевских выкрутасов, а потому пошла на переворот, даже не будучи припертой к стенке.
Но в 1985 г. советская система не испытывала столь масштабного кризиса, как раньше. В определенном смысле можно сказать, что ее погубила “борьба хорошего с лучшим”. Естественно, если смотреть на “хорошее” и “лучшее” с точки зрения баловней брежневского застоя.
Мы хотим перемен
Что же не позволило стране продолжить двигаться вперед “ленинским курсом” с брежневской спецификой? Обычно, когда ищут объективные причины наметившегося в начале 80-х гг. поворота, называют падение мировых цен на нефть и эскалацию гонки вооружений, произошедшую в период правления администрации Рональда Рейгана – наиболее непримиримо настроенного по отношению к СССР президента США. Судя по всему, эти факторы действительно существенно повлияли на царящие в умах советской элиты настроения. Но с высоты наших сегодняшних знаний вряд ли можно говорить о том, что они имели принципиальное значение.
Нехватка нефтедолларов, конечно, означала снижение возможностей для подкормки народа и, следовательно, дальнейшее падение популярности вождей, и без того ставших уже героями бесчисленных анекдотов. Для демократии такое положение вещей опасно. Но было ли оно опасно для советской тоталитарной системы?
Какое-то время мы полагали, что опасность существует. Это мнение покоилось на изучении революционного прошлого страны, на страхе, вызванном русским бунтом – бессмысленным и беспощадным. Элиты ждали социального взрыва в 1992-93 гг., когда людям, не вписавшимся в рыночные реформы, пришлось изрядно хлебнуть лиха. Элиты ждали волнений после дефолта 1998 г., когда разом обеднела практически вся страна – от олигархов до одиноких стариков. Даже на волне неудач чеченской кампании, когда тысячи россиян стали жертвами бессмысленной бойни, многие ждали проявлений массового недовольства.
Однако россияне каждый раз поражали аналитиков своей терпеливостью и даже индифферентностью, переходящей в пофигизм. Оказалось, что бунт – бессмысленный и беспощадный – это явно из другой истории, более сложной и пока не до конца нами понятой. Простое падение жизненного уровня – это еще не повод для революций. Или, во всяком случае, повод недостаточный.
Так можем ли мы, глядя сегодня на эпоху середины 80-х гг., сказать, что нехватка нефтедолларов объективно определяла наступление перестройки? Если она что-то и определяла, то была, скорее, дополнительным аргументом для тех, кто по совсем иным причинам стремился к осуществлению радикальных преобразований.
Примерно то же можно сказать и об обострении гонки вооружений. Для того чтобы добиться паритета, Сталин в свое время не устраивал никаких перестроек. Напротив, он лишь туже затягивал гайки. Вся страна могла голодать, когда собирались средства на строительство военных (и полувоенных) объектов первых пятилеток. Целые районы могли отключаться от электричества, когда энергия требовалась создателям атомной бомбы. И ничего – народ терпел. Потерпел бы, очевидно, и в 80-е гг., если бы власть в очередной раз решила закрутить гайки ради укрепления обороноспособности страны.
Конечно, в век высоких технологий подобным образом соперничать с американцами нам было уже не под силу, но 20 лет назад таких тонкостей в советской элите еще никто понимать не мог. Особенность той эпохи состояла в том, что, прежде всего, сама элита не хотела сохранять систему. И лишь в той мере, в какой она нуждалась в оправдании своего нежелания терпеть брежневский застой, элита искала рациональных мотивов для своего ренегатства.
Такой вот получается парадокс. Экономически система вполне удовлетворяла элиту, и если была тяжелой для широких масс населения, то отнюдь не настолько, чтобы вызвать социальный взрыв. Однако экономический детерминизм при объяснении краха старого режима абсолютно не срабатывает. Дело в том, что ментально система отторгалась практически всеми. Мы не видели в ней смысла. Мы не считали ее легитимной. И хотя разные люди ждали различных преобразований, все в равной степени готовы были отряхнуть со своих ног прах убогих кумиров того времени – престарелых маразматиков, с трудом держащихся на ногах и кое-как живущих, под собою не чуя страны.
Коммунистическая идея медленно умирала, сохраняя свою жизненную силу, скорее, не столько среди номенклатуры, сколько в рядах романтиков-шестидесятников. Старую идею мог бы заменить национализм, и Сталин попытался пойти этим путем. Но трансформировать коммунизм в национализм при жизни он не успел, а после 1956 г. все идеи отца народов оказались изрядно замараны его репутацией. К тому же вынужденная борьба с немецким национал-социализмом объективно подорвала позиции великорусских шовинистов, постоянно оказывавшихся в меньшинстве.
В итоге оставалось лишь одно. Западная культура, активно проникавшая к нам в 70-е гг. сквозь железный занавес, постепенно занимала место в почти очищенных от официальной идеологии умах граждан и товарищей. Рок-музыка заводила почище Интернационала. Зарубежное кино показывало быт Парижа и Нью-Йорка, как он есть, т.е. без примеси советской пропаганды. Наконец, импортные шмотки и парфюм убеждали в том, что капитализм если и загнивает, то с потрясающим запахом.
“Мы хотим перемен”, – пел тогда легендарный Виктор Цой. “Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота”, – вторил ему Андрей Макаревич. А Борис Гребенщиков чертил нам контуры золотого града.
И это не был конфликт отцов и детей. Как отцы, так и дети грезили о золотом граде. Уход Брежнева открывал дорогу к поискам этой таинственной обители. Как только появилась возможность “выехать” за ворота застойного царства, так сразу миллионы людей устремились к переменам.
Провал “аристократии духа”
Первым повел нас по пути перемен Андропов. Это был совсем иной человеческий тип, нежели Брежнев. Безумно любивший власть как таковую, а отнюдь не блага, с нею связанные, легендарный гэбист стремился к переустройству СССР. Правил страной он лишь 15 месяцев, а реально (из-за плохого здоровья) гораздо меньше. Можно сказать, почти и не правил, а потому о сути андроповского курса преобразований до сих пор ведутся ожесточенные споры.
Андропов был интриганом, но, в отличие от Брежнева, не столько пользовался моментом, сколько сам его создавал. Андропов был аскетичен, но, в отличие от Суслова, всегда строго и элегантно одет. Андропов ценил идеи, но, в отличие от того же Суслова, был не столько хранителем марксистских традиций, сколько их модификатором, для чего даже собрал вокруг себя в начале 60-х гг. мозговой штаб в составе Георгия Арбатова, Александра Бовина, Олега Богомолова, Федора Бурлацкого, Георгия Шахназарова – людей заметных в интеллектуальной жизни страны вплоть до конца столетия.
И самое главное, Андропов использовал интригу ради идеи, а идею – ради интриги. Причем как то, так и другое, в конечном счете, должно было служить не телу, а делу. Тому делу, плоды которого мы так и не увидели.
Одной из удивительных особенностей Андропова было стремление казаться интеллектуалом. Он имел лишь “заушное” образование Высшей партшколы, не был способен к языкам и абсолютно не разбирался в экономике – том главном, что должно было лежать в основе всяких преобразований. Однако КГБ успешно создавал миф об Андропове-полиглоте, читающем лекции в МГИМО, знающем новинки литературы, смягчающем давление партийных бонз на диссидентов и – самое главное – давно уже имеющем программу радикальных преобразований.
Впрочем, когда Андропов действительно пришел к власти, мы не увидели ничего иного, кроме попытки ужесточить трудовую дисциплину карательными мерами. Столь близкие Андропову органы устраивали массовые облавы в надежде с помощью страха заставить людей находиться в рабочее время на рабочем месте, а не в бане, в кино или в очереди за колбасой. Нужно ли было новому генсеку принимать образ интеллектуала для того, чтобы проводить такие реформы?
Обычно считается, что Андропов со свойственной гэбисту иезуитской хитростью маскировался, втираясь в доверие к интеллигенции и к западным журналистам. Но не будем усложнять. Скорее всего, он, как всякий умный от природы, но малообразованный человек, объективно тянулся к тем, кого называл “аристократами духа”.
Андропову было скучно в кремлевском гадюшнике. Всех его обитателей он постепенно слопал, чем доказал преимущество интеллекта над присущей советской элите хитрожопостью. Однако стать своим среди “аристократов духа” новый генсек не сумел. Духа на это, может, и хватило бы, но не аристократизма.
Андропов гениально просчитывал комбинации, но… не более чем на полхода. Судя по всему, он был искренним в борьбе с коррупцией и в стремлении заставить лениво крутящуюся производственную машину работать, как швейцарские часы. Вряд ли при этом он был сталинистом, готовым завести эту машину с помощью массовых репрессий. Но беда Андропова состояла в том, что иного способа сдвинуться с мертвой точки он не знал.
Несмотря на искреннее стремление к переменам и определенный интеллектуализм, Андропов оказался дальше от той модели, к которой мы пришли в 90-е гг., чем даже Брежнев с Черненко. Этих двоих тащила за собой судьба, и они не сильно сопротивлялись велениям времени. Но Андропов пытался судьбой управлять, а потому был несчастлив, постоянно сидел на транквилизаторах и, в конечном счете, уперся в стенку, преодолеть которую так и не смог.
Был ли он адекватен советскому обществу начала 80-х гг.? И да, и нет.
С одной стороны, Андропов делал то, к чему стремились все, – трансформировал нелегитимную систему, хватая за хвост “жирных котов”, вызывавших зависть и ненависть у рядового советского человека. В этом причина сохраняющегося и по сей день мифа об Андропове-реформаторе.
Но, с другой стороны, генсек от КГБ пытался вести страну туда, куда никто идти уже не хотел. Советское общество было поголовно коррумпировано. Галина Леонидовна пробавлялась бриллиантами, а какой-нибудь Иван Иванович тащил с завода инструмент. При этом каждый терпимо относился к своему собственному “бизнесу”, глубоко презирая “бизнес” другого.
Андропов мог бы держаться у власти, устраивая время от времени показательные расправы то наверху, то внизу, но он не мог подобным образом реформировать общество. Более того, постепенно генсек, плюющий против ветра, перестал бы быть фигурой хоть сколько-нибудь уважаемой, а его попытки легитимизировать систему привели бы к формированию у людей ощущения еще большей нелегитимности.
Если брежневская система, в принципе, могла бы пережить Брежнева, то андроповская вряд ли пережила бы своего автора при любом развитии событий. Она кормила иллюзии, но на практике мешала всем – и верхам, и низам.
Это, конечно, все наши домыслы. Быстрая смерть Андропова и политический провал тех, кого можно было бы условно считать продолжателями его линии, не позволили выяснить, как дело пошло бы на практике. Но, думается, судьба Горбачева – наиболее гибкого из той четверки, что прогуливалась теплым осенним вечером 1978 г. по перрону в Минводах, – демонстрирует нам самый естественный ход событий. Тот ход, к которому рано или поздно страна все равно бы обратилась.
Горбачев из всей четверки был ближе всего к народу. Он в какой-то мере отдавал дань той линии, что шла от Андропова, и, бесспорно, разделял его взгляды на нелегитимность брежневской системы. Недаром Горбачев прошел через борьбу с пьянством, представлявшую собой разновидность андроповского курса на укрепление трудовой дисциплины.
Но в молодом генсеке сочетались неумеренное брежневское жизнелюбие с умеренным андроповским интеллектуализмом. И все это дополнялось принципиально новым видением мира, обретенным в сравнительно частых зарубежных поездках. Поэтому при Горбачеве страна начала медленно нащупывать дорогу к настоящим реформам, способным так трансформировать систему, чтобы придать ей и динамизм, и легитимность.
Итак, представим себе на минутку, что картина реального развития событий вдруг пронеслась бы перед глазами Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева поздним вечером 19 сентября 1978 г. Как каждый из них реагировал бы на внезапно открывшиеся перспективы?
Думается, что Леонид Ильич был бы наиболее спокоен. Вряд ли бы он многое понял из увиденного, но, скорее всего, обстановка обретенного элитой олигархического комфорта доставила бы ему удовольствие сродни тому, которое он получал, завалив на охоте упитанного кабанчика.
Константин Устинович с некоторым волнением стал бы изучать реакцию шефа, но, убедившись в спокойствии Брежнева, принял бы свершающееся как должное.
Юрий Владимирович оказался бы наиболее раздражен. Система, выходящая из-под контроля и развивающаяся по присущим ей законам, никак не укладывалась в его голове. Претендующий на интеллектуализм, Андропов почувствовал бы себя ущемленным, как азартный игрок, проигравший принципиально важную партию. Впрочем, удовлетворение от растущей ныне политической роли органов, наверное, несколько смягчило бы гнев.
В настоящем шоке пребывал бы лишь Михаил Сергеевич. Уж он-то совсем не ожидал от себя ничего подобного.