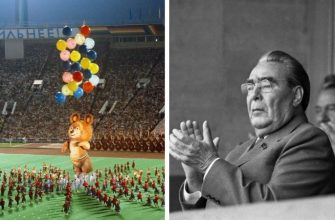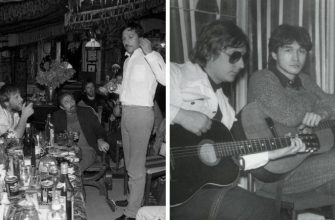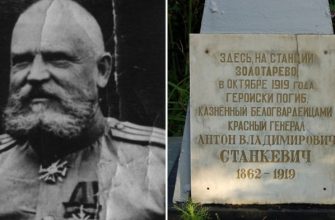акрагантском тиране VI в. до н.э.
I. Историческое вступление. Явление старшей тирании (Греция – Сицилия – Акрагант)
Греческая тирания была классическим примером режима личной власти, порожденного смутным временем и движимого исключительно личным честолюбием и эгоизмом его носителя. Это верно не только по отношению к младшей тирании, т.е. тирании позднеклассического времени, чья оценка в историографии всегда шла со знаком минуса, но и применительно к тирании старшей, тирании времени архаического, которую нередко пытались представить как явление прогрессивного плана, как вид демократической диктатуры, непосредственно подготовившей рождение самой демократии. Отчасти для преодоления этой историографической иллюзии, а еще более – для выработки общего принципиального суждения о греческой тирании полезно обращение к истории тиранических режимов в Сицилии, где, как было отмечено уже древними, бурная социально-политическая жизнь особенно благоприятствовала частому возникновению тираний и их полнокровному существованию (Thuc., VI, 17, 2-6; 38, 3; Plat. Ep., VII, p.326 b-d; Diod., XIX, 1, 1-5).
К числу наиболее ранних и вместе с тем выпукло отраженных в традиции сицилийских тираний относится правление Фалариса в Акраганте. Собственно говоря, это была вторая по времени известная нам тирания в Сицилии. Она датируется лишь на треть века позже тирании Панэтия в Леонтинах, которая, по общему признанию, была первой в ряду сицилийских тираний (Euseb.Chron., II, p.90 Schoene, под 608 г. до н.э.: Panaetius primus in Sicilia arripuit tyrannidem). При этом в общем плане, для суждения о повсеместности тираний, показательно, что если тирания Панэтия возникла в зоне ионийского расселения, то следующая по времени тирания Фалариса родилась уже на дорийской почве.
Напомним, что Акрагант был основан партией колонистов, вышедшей из Гелы, которая сама была основана переселенцами с Родоса и Крита (Thuc., VI, 4, 3-4). Созданию этих городов предшествовало основание колонистами из Коринфа самого крупного из дорийских полисов в Сицилии – Сиракуз. Согласно наиболее авторитетной хронографической традиции, основание Сиракуз приходится на 735 г., основание Гелы состоялось 45 лет спустя, т.е. в 690 г., а основание Акраганта – еще 108 годами позже, т.е. в 582 г. до н.э. (Euseb. Chron., II, vers. arm. Karst, p.182. 184; Thuc., VI, 4, 3-4; Pind. Ol., II, 90-93 Boeckh).
Что же касается правления Фалариса, то в важнейшем хронографическом источнике, сообщающем точные данные, – у Евсевия (Chron., II, vers. arm. Karst, p.185. 186. 188), – она датируется двояко: 650-622 и 571-555 гг. до н.э. Первая дата невозможна, ибо тогда тирания Фалариса предшествовала бы основанию самого города Акраганта. Остается вторая дата, с которой, кстати, согласуется и другое свидетельство, правда, гораздо более позднего источника – лексикографа Свиды. Последний говорит о подчинении Фаларисом всей Сицилии (что, конечно, преувеличение) в 52-ю олимпиаду, т.е. в 572-569 гг. до н.э. (Suidas, s.v. Favlari”: turannhvsa” de; Sikeliva” o{lh” kata; th;n nbV ojlumpiavda). Принимая во внимание эти данные и соображения, ученые нового времени согласно датируют правление Фалариса в Акраганте 571-555 гг. до н.э.
При всем том состояние источников, относящихся к тирании Фалариса, оставляет желать лучшего. Когда мы говорим о том, что этот режим выпукло представлен в традиции, мы имеем в виду многочисленные свидетельства древних о характере правления Фалариса (о чем речь еще впереди), а не о правлении как таковом. Здесь в нашем распоряжении имеются лишьотрывочные высказывания разных авторов, среди которых фигурируют, однако, и прекрасно осведомленный о сицилийских делах, придворный, так сказать, поэт сицилийских властителей Пиндар, и представитель собственно сицилийской историографии Тимей, и столпы универсальной историографии Полибий и Диодор, и такие писатели-эрудиты, как Аристотель, Цицерон и Плутарх, и, наконец, составители объемистых и основательных хрестоматий Полиен и Афиней.
Используя их свидетельства, можно реконструировать по крайней мере главные факты правления Фалариса. Разумеется, большую помощь при этом могут оказать уже наличествующие разработки этой темы в историографии нового времени – в общих трудах по истории древней Греции (Эд. Мейер, Г.Бузольт, К.-Ю.Белох) и древней Сицилии (Ад.Гольм, Эд.Фримен, Т.Данбэбин), в более частных трудах по истории греческой тирании (Г.Г.Пласс, Г.Берве, Н.Лураги), в исследованиях, специально посвященных Фаларису, поскольку есть и такие (Т.Леншау, Э. Де Миро, М.Ф.Высокий). Нет нужды пояснять, что наличие всех этих трудов отнюдь не закрывает возможность, а наоборот, создает важную предпосылку для нового обращения к теме древней акрагантской тирании.
II. Правление Фалариса
Согласно поздней, но необязательно недостоверной традиции, Фаларис был сыном Леодаманта, родом с острова Астипалеи, по каким-то причинам лишившимся старого отечества и затем обретшим новое в Сицилии (Ps.-Phalaris, Ep., 4 Hercher; Tzetz. Chil., I, 643; XII, 453) 7.
Общим образом о его пути к власти в Акраганте свидетельствует Аристотель, когда он называет этого древнего тирана среди тех, кто достиг тиранической власти, опираясь на почетное положение, на исполнение почетной должности (Aristot. Pol., V, 8, 4, p.1310 b 28-29: oiJ de; peri; th;n Iwnivan kai; Favlari” ejk tw`n timw`n [sc. tuvrannoi katevsthsan]).
Более подробно об этом рассказывает Полиен (V, 1, 1). По его словам, Фаларис исполнял в Акраганте должность телона (telwvnh”) – чиновника, ведавшего откупами. Он взялся соорудить на каменистом холме – будущем акрополе, в ту пору совсем незастроенном, храм Зевса Полиея, на что община выделила огромную сумму в 200 талантов. Для выполнения работ он нанял большое число чужеземцев и привлек колодников (pollou;” me;n misqou`tai xevnou”, pollou;” de; wjnei`tai desmwvta”). Под предлогом охраны собранных строительных материалов от расхитителей он добился позволения возвести вокруг акрополя ограду, а затем, вооружив чем попало своих рабочих, во время праздника Фесмофорий напал на граждан, причем перебил множество мужчин, а их жен и детей взял в полон, и, таким образом, захватил единоличную власть.
По многим пунктам истории древней акрагантской тирании традиция оставляет нас в неведении. Мы ничего не знаем о том, как складывались социальные отношения в Акраганте в первое десятилетие его существования, до установления тирании. По мнению Г.Г.Пласса, в ту пору рано было бы говорить о развитии сословного противостояния и связывать выступление Фалариса с обострением социальной розни 8. Нам, однако, представляется, что по аналогии с другими колониальными дорийскими полисами (Сиракузами, Гераклеей Понтийской) господствующее положение в общине акрагантян занимала землевладельческая знать из числа первопоселенцев, оппозицию которым могли составлять быстро возраставшие в числе эпойки. Ситуация могла осложняться соперничеством знатных кланов, отличавшихся своим происхождением; ведь одна часть переселенцев из Гелы могла быть родосского, а другая – критского происхождения. В любом случае, судя по тому, что нам известно о составе рабочих Фалариса, в Акраганте уже в ту пору не было недостатка в деклассированных элементах, которые всегда были готовы поддержать любую смуту.
По-видимому, новый режим был тиранией чистой воды. У нас нет сведений относительно того, что Фаларис маскировал свое правление исполнением какой-либо высокой должности, скажем, стратега-автократора. Зато тот же Полиен (V, 1, 2) рассказывает, как, с помощью уловки, Фаларис изъял у граждан оружие и тем самым ликвидировал гражданское ополчение. К другим проявлениям тиранического произвола могли относиться включение в состав гражданства тех привлеченных к работам на акрополе чужеземцев и колодников, которые поддержали начавшийся путч, равно как и обычное в таких случаях предоставление этим сателлитам собственности и жен репрессированных граждан. Непосредственной военной опорой Фалариса были отряды наемных телохранителей-dorufovroi (прямые упоминания о них: Polyaen., V, 1, 2; Aelian. V.H., II, 4; косвенные свидетельства: Aristot. Rhet., II, 20; Plut. Praec. ger. reip., 28, p.821 e). Конечно, не исключено, что позднее, когда режим окреп, а активная внешняя политика потребовала дополнительных сил, тиран мог вновь вызвать к жизни гражданское ополчение, подобно тому, как это проделал позднее Дионисий Сиракузский.
Действительно, Фаларис пытался опереть свою власть на различные внешние инициативы, догадываясь, что именно они могут доставить устойчивость его, в принципе, непопулярному режиму. Здесь его действия могли сомкнуться с интересами молодой акрагантской общины, которая, подобно другим колониальным греческим полисам, в особенности дорийского происхождения, должна была стремиться к расширению подконтрольной ей территории, к порабощению или оттеснению в глубь острова местных варваров, к созданию обширного территориального единства как путем завоевания земель туземцев, так и посредством подчинения соседних греческих городов. Н.Лураги предполагает даже, что самое возвышение Фалариса было как-то связано с ранней экспансионистской политикой акрагантян 9.
Как бы то ни было, судя по крохам сохранившейся исторической информации, Фаларис вел широкое наступление на соседние туземные племена сиканов (Polyaen., V, 1, 3-4), пытался распространить зону своей власти или влияния как на восток, так и на запад. На востоке он определенно достиг реки Гимеры и возвел укреленные форты у горы и мыса Экном (Diod., XIX, 108, 1-2), по-видимому, с прицелом на подчинение акрагантской метрополии Гелы. На западе он, возможно, вошел в соприкосновение, а затем и в конфликт с местными финикийскими колониями, а потом и с их патроном – Карфагеном (ср. свидетельства древних о военных операциях карфагенян в Сицилии во времена персидского царя Кира Старшего: Iustin., XVIII, 7, 1-2; Oros., IV, 6, 6-9) 10. Не исключено, что общая борьба с карфагенянами сблизила Акрагант с Гимерою (городом на северном побережье Сицилии), где, если верить Аристотелю (Rhet., II, 20), он был даже удостоин должности стратега-автократора 11.
Если все это так, то в Фаларисе можно видеть предтечу знаменитых сиракузских властителей, сделавших борьбу с Карфагеном центральным пунктом своей внешней политики, – Гелона и Гиерона, Дионисия Сиракузского и, наконец, Агафокла 12. Впрочем, надо отдавать себе отчет в гипотетичности всего этого построения, поскольку у древних авторов (у Юстина и Орозия),
повествующих о действиях карфагенян в Сицилии в ту пору, прямо ничего не говорится ни о столкновении с Фаларисом, ни о какой-либо иной борьбе с сицилийскими греками 13.
Каковы бы ни были внешние успехи акрагантского правителя и его возможные заслуги в деле защиты греческой Сицилии от карфагенской угрозы, общий характер его правления, согласно господствующему мнению античной традиции, отличался исключительной суровостью, более того – крайней жестокостью в отношении как чужеземцев, так и собственных сограждан. Уже у Пиндара “дружелюбной доблести” (filovfrwn ajretav) Креза противополагается “безжалостный разум” (nhleva novon) Фалариса (Pind. Pyth., I, 94-98 Boeckh), а у Аристотеля Фаларис не раз фигурирует как образец крайнего зверства и жестокости (Eth. Nic., VII, 6, p.1148 b 24. 1149 a 13; Eth. Magn., II, 6, p.1203 a 23). В позднейшей греческой традиции выражение “власть Фалариса” стала синонимом жестокого правления вообще (Diogenian., VIII, 65: Falavrido” ajrcaiv: ejpi; tw`n wjmw`” th`/ ejxousiva/ crwmevnwn). А Цицерон, при своем пристрастии к греческим словечкам и выражениям, сумел изобрести даже новое понятие фаларизма – falarismov”, которое и приложил в одном из своих писем в январе 49 г. до н.э. к грядущей тирании Юлия Цезаря (Cic. Ad Att., VII, 12, 2).
При таком характере правления естественным было и драматическое его завершение. Ненавистная согражданам, тирания Фалариса в конце концов пала в результате всеобщего возмущения (Cic. De off., II, 7, 26: Phalaris <…> in quem universa Agrigentinorum multitudo impetum fecit; ср.: Diod., fr.IX, 30). При этом, как и в Афинах при Писистратидах, важную инициативную роль сыграло вмешательство извне, а именно – вооруженного отряда, прибывшего с острова Фера под водительством знатного (но не дорийского!) рода Эмменидов (Schol. Pind. Ol., II, 46; III, 38 Boeckh). Главой этого воинства был Телемах, возводивший свое происхождение к фиванским царям Лайю и Эдипу. Сыном этого Телемаха был Эммен (или Эмменид), по которому весь род стал именоваться Эмменидами, а правнуком Телемаха был Ферон, которому суждено будет стать основателем новой тирании в Акраганте (уже в V в. до н.э.).
Что касается Фалариса, то судьба его самого и его близких была незавидна: они все были перебиты восставшими акрагантянами. Остервенение народа было столь велико, что после свержения ненавистного режима было принято постановление, запрещавшее впредь носить плащи синего цвета, поскольку в одежды такого цвета наряжались ранее сателлиты тирана (uJphrevtai tou` turavnnou, Plut. Praecep. ger. reip., 28, p.821 e). Во главе управления в Акраганте, по свидетельству Гераклида Понтийского, встали новые люди – сначала Алкамен, а затем Алкандр (Heracl. Pont., fr.37 Mueller, FHG, II, p.223: meqV o}n [sc. Favlarin] jAlkamevnh” parevlabe ta; pravgmata kai; meta; tou`ton Alkandro” proevsth, ajnh;r ejpieikhv”). Это были не тираны, а скорее всего, судя по выражению нашего источника, политические лидеры типа эсимнетов, содействовавшие упорядочению политических дел и экономическому расцвету акрагантской общины (ср. заключительную реплику в отрывке из Гераклида Понтийского: kai; eujqevnhsan ou{tw” wJ” peripovrfura e[cein iJmavtia).