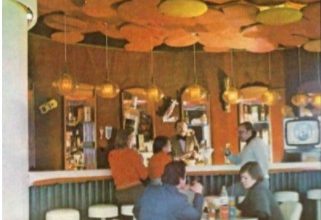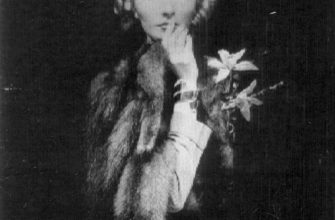Один из них – миф о так называемой “атаке века”, которую осуществил командир подводной лодки “с-13” Александр Маринеско. Об этой “атаке” написаны романы, научные исследования, “известия” на исходе 80-х годов вели настоящую войну с министерством
Один из них – миф о так называемой “атаке века”, которую осуществил командир подводной лодки “с-13” Александр Маринеско. Об этой “атаке” написаны романы, научные исследования, “известия” на исходе 80-х годов вели настоящую войну с министерствомобороны и войну эту таки выиграли: в 1990 году маринеско посмертно было присвоено звание героя советского союза.
Вот лишь один образчик исторической лжи: “лодка “с-13” отправила на дно вместе с лайнером “вильгельм густлофф” несколько тысяч отъявленных нацистов. И в том числе семьдесят отборных экипажей подводных лодок. Гитлер приказал расстрелять оставшегося в живых командира конвоя, объявить в стране еще один, очередной после сталинграда траур, заочно приговорить командира советской подводной лодки к смерти, назвать его врагом рейха и своим врагом лично. Запад однозначно окрестил тот январский поиск нашей лодки атакой века”.
Серьезные исследователи без труда развенчали очередной миф, но вот пришла очередная годовщина, и “известия” устами своего обозревателя эд. Поляновского опять гнут свое: “атака века – так оценили подвиг экипажа “эски” английские историки”. И, конечно, живописание ужасов: “завывали сирены, старшие офицеры стреляли в младших, прокладывая путь к спасательным шлюпкам. Другая торпеда попала в пустой бассейн, где разместился женский батальон.
Бассейн заполнился кровью”. Что же было на самом деле. ответу на этот вопрос посвящено скрупулезное исследование ростислава горчакова. Полностью оно будет опубликовано в питерском журнале “новый часовой”.
“Нг” предлагает читателям газетный вариант. Ковчег. Вне зависимости от того, “нравится” кому-то маринеско или нет, восторженные реляции его поклонников о потопленных на “густлоффе” несметных тысячах подводных асов и эсэсовцев мало убедительны уже потому, что не сопровождаются обязательными для любого непредвзятого исследования ссылками на конкретные документы или свидетельства очевидцев. В действительности документы свидетельствуют, что на борту торпедированного лайнера не было ни “карателей и убийц”, ни “эсэсовской элиты”, а командир подлодки там был лишь один, да и тот бывший.
Отсутствовали на лайнере и подводники, прошедшие обучение на новых немецких лодках. Возникает естественный вопрос: кого же тогда потопил торпедный залп “с-13”. пассажирский пароход “вильгельм густлофф” был спущен на воду в 1937 году. Сразу после нападения германии на польшу был переведен в категорию плавучих лазаретов.
В конце июня 1940 года судно передали в аренду главному управлению подводного флота в качестве плавучей казармы. Разместившаяся на “густлоффе” 22-я учебная флотилия была организована при втором учебном дивизионе подводного плавания в январе 1941 года. На счету командира флотилии корветтен-капитана хайнриха бляйхродта было 27 потопленных судов общим тоннажем в 159 тысяч тонн, но делиться с курсантами своим богатым боевым опытом ему почти не пришлось. Мины в заливе воспрепятствовали тренировочным походам подводных лодок.
К тому же августовские налеты королевских ввс нанесли флотилии существенный ущерб. Англичане потопили “вольдемара копхамеля”, одну из двух находившихся в готенхафене баз подлодок, а плавучая казарма “вильгельм густлофф” получила серьезные повреждения корпуса в результате разрыва у борта мощного фугаса. Да и сама судьба готенхафенского учебного дивизиона по мере январского продвижения советских войск в глубь восточной пруссии повисала на все более тонком волоске. Поэтому вскоре поступил приказ о передислокации в вильгельмсхафен.
Первыми туда ушли лодки, битком набитые личным составом дивизиона и штабом 22-й флотилии. Старшекурсники, уже получившие унтер-офицерские звания, отправились на запад поездом, чтобы продолжить практику непосредственно на лодках фронтовых флотилий. Оставшимся в готенхафене 918 курсантам младших групп было предписано догонять свою учебную флотилию на “густлоффе” вместе со вспомогательным персоналом. Учитывая, что этот персонал состоял из 373 машинисток, поварих и телефонисток женского морского корпуса в возрасте от 18 до 25 лет, курсанты считали, что им повезло больше всех.
Первоначально предполагалось, что на “густлоффе”, дополнительно к курсантам, разместится около двух тысяч жителей эвакуируемого готенхафена. Задача принять на судно три с половиной тысячи человек вместо положенных двух осложнялась еще и предписанием пропускать эвакуируемых на трап “густлоффа” только при наличии особого разрешения на право выезда, заверенного местным партийным руководством. Пассажирский помощник отвечал головой за каждого зайца, пробравшегося на судно без соответствующей партийной “визы”. Возможно, как раз из такой процедуры родился позднейший миф о шедших на лайнере “отъявленных нацистах”.
На “густлоффе” эту фильтрацию довели почти до абсурда. Даже когда к борту подъехали машины военного госпиталя готенхафена со 162 тяжелоранеными, стоявшие у трапа фельджандармы не позволили поднимать на судно носилки до тех пор, пока досконально – при 18-градусном морозе. – не проверили документы у всех новоприбывших, от врачей до метавшихся в бреду солдат. Столь же строгой проверке подвергся у трапа судна и городской роддом во главе с одним из лучших гинекологов страны профессором рихтером, – хотя многим из женщин предстояли роды в ближайшие часы (до отхода “густлоффа” на нем родилось 6 здоровых малышей).
Список пассажиров лайнера перевалил сначала за четыре, потом за пять, наконец, за шесть тысяч. Рожениц и раненых разместили по секциям просторного закрытого солярия на верхней палубе, а вспомогательный женский корпус, напротив, переместили ниже ватерлинии, в обширный плавательный бассейн (после чего за девушками корпуса немедленно закрепилось прозвище “русалок”). Судоводители “сгруппировались” в нескольких каютах за ходовой рубкой. Машинная команда тоже переселилась к своим непосредственным рабочим местам у двигателей, генераторов и насосов.
Освободившееся пространство было уплотнено до предела, позволив разместить в каютах, кинотеатрах и салонах еще три тысячи беженцев. Один в ночном море. Утром 30 января от деница пришло долгожданное разрешение на выход в море теплохода “вильгельм густлофф”, парохода “ганза” и беженского судна “вильгельм бауэр”. Четыре портовых буксира, не без труда вырвав корпус лайнера из удерживавшего его ила, повели “густлофф” сквозь битый лед к середине гавани.
Миноносец “леве” передал “густлоффу” флажный сигнал – дожидаться на якоре подхода остальных судов. Но первое пополнение подошло к нему не из бухты, а с моря: обледенелый спасательный буксир “ревель” доставил на борт лайнера еще 500 измученных холодом и качкой беженцев из пиллау. Среди них оказалась готовившаяся к родам молодая жительница эльбинга, которая расплакалась от счастья при виде ярко освещенной теплой “густлофф-клиники” профессора рихтера. Вскоре к “густлоффу” присоединилась “ганза”, но ремонт руля на “вильгельме бауэре” затягивался, поэтому из штаба поступило распоряжение более никого не дожидаться.
“Подводник n1”. Герой советского союза александр маринеско за какие-то десять дней убил больше грудных младенцев, женщин, стариков, подростков, раненых и инвалидов, чем все подводники всех морских держав за обе мировые войны. В этом смысле – только в этом и ни в каком другом. – командир “с-13” действительно заслуживает звания подводника номер один мировых войн.
Звания, которым его так любят величать ревнители “боевых традиций” советского подводного флота. Сопровождаемые миноносцем “леве”, тральщиком “м-35” и торпедоловом учебной флотилии “тф-19”, оба пассажирских судна двинулись на внешний рейд. Только там капитаны смогли, наконец, узнать свои порты назначения: “ганзе” предписывалось идти во фленсбург, “густлоффу” – в киль. Их совместное плавание на запад продолжалось ровно 7 минут – рулевая машина “ганзы” отказала, и тральщик отправился в готенхафен за буксирами.
Вскоре оттуда на “густлофф” пришло распоряжение продолжать плавание под охраной “леве” и “тф-19”. Для огромного лайнера такой эскорт был более чем скромным. Маленький миноносец “леве” имел всего лишь два 40-мм орудия и несколько зенитных пулеметов. Трехсоттонный “тф-19” с его двумя 20-мм зенитными автоматами мог считаться и подавно символическим защитником.
Погода не благоприятствовала плаванию: шторм и снежные заряды временами сводили видимость почти до нуля, чрезвычайно затрудняя следование в кильватерном строю. Особенно трудно приходилось торпедолову: слабая машина не позволяла точно удерживать корабль на курсе, и его то и дело сносило с фарватера. Мин при этом он не потревожил, но резкий удар днищем о каменистую банку вызвал поступление воды в машинное отделение, после чего командиру миноносца пришлось сопровождать аварийный торпедолов назад в готенхафен. Оставшийся в полном одиночестве “густлофф” вскоре покинул данцигский залив и вышел из узкого фарватера в открытое море.
Практика военных лет требовала немедленно развить там максимальный ход при постоянном выполнении противолодочного зигзага, но для “густлоффа” ни то, ни другое доступно не было. Зигзаг потребовал бы значительного увеличения расхода топлива, которого из-за длительных задержек рейса было на лайнере в обрез, а “старые раны” обросшего ракушками корпуса исключали даже 15-узловый ход, не говоря уже о форсированном. Поэтому никем не охраняемый лайнер продолжал идти прежним 12-узловым ходом, без выполнения каких бы то ни противолодочных маневров, представляя, таким образом, идеальную двухсотметровую мишень для любого, даже самого бездарного подводника. Согласно данным, уточненным уже после войны, вечером 30 января на лайнере находилось: 8956 беженцев, эвакуируемых гражданских лиц и медперсонала; 918 курсантов 2-го учебного дивизиона; 373 девушки из состава вспомогательного морского корпуса; 173 члена экипажа; 162 тяжелораненых – всего 10582 человека.
Это означало, что в случае катастрофы спасательными плавсредствами мог быть обеспечен лишь каждый второй пассажир. Лишь к половине девятого на судне установилось относительное спокойствие, и девушки, наскоро подкрепившись эрзац-чаем с бутербродами, гурьбой направились в недра судна к своему “спальному бассейну”. Уже минут через двадцать в огромном помещении бассейна, слабо освещенном четырьмя плафонами, воцарилась тишина – смертельно уставшим за день “русалкам” было не до обычных вечерних перешептываний и смешков. Выйдя на правое крыло мостика, капитан-наставник хейнц веллер поежился от холода и с удовлетворением отметил, что в небе по-прежнему не видно ни одной звезды, а снег продолжает падать.
Атак советских бомбардировщиков можно было не опасаться. Предупреждений о подлодках тоже не поступало. Перед тем как вернуться в тепло капитанского мостика, веллер посветил фонариком на термометр: ртутный столбик застыл на минус 16. Тщательно закрыв за собой дверь, капитан-наставник потер озябшие руки и наклонился к судовому журналу, чтобы внести туда сведения о видимости и температуре, но успел записать только время – “21.
08″. Ад. В следующую секунду сильнейший толчок чуть не сбил его с ног. “Мина.
” – подумал он, однако еще два почти одновременно сотрясших корпус лайнера мощных взрыва убедили его в том, что густлофф” торпедирован. Резко оборвавшаяся вибрация палубы и погасшие за стеклами рубки ходовые огни красноречиво свидетельствовали о серьезности нанесенных судну ран. Взрыв первой торпеды разорвал левый борт “густлоффа” ниже ватерлинии у кормы. Вторая торпеда взорвалась ближе к центру судна, точно под бассейном.
Из спавших там “русалок” не спасся никто, кроме трех девушек, лежавших ближе к трапу. Третий взрыв произошел в машинном отделении, практически мгновенно затопленном водой вместе со всеми находившимися там моряками. Лишившись половины своего левого борта, теплоход быстро “ложился” на воду. Творившиеся в недрах “густлоффа” дантовские сцены заставили поседеть почти каждого сумевшего вырваться наружу.
Вот отрывок из свидетельства ингеборг ротенбергер: “ребенок выпал из руки повисшей на скобе трапа женщины и почти сразу был затоптан обезумевшей толпой внизу. Если бы я наклонилась к нему, меня тоже сразу затоптали бы вместе с ним. Вокруг меня все рвались к трапу. Я споткнулась о невидимое кричащее тельце и едва удержалась на ногах.
Толпа понесла меня дальше. Это было ужасно”. В воде плавали сотни соскользнувших с палубы людей, которые старались достичь ближайших к ним полупустых шлюпок, плотов или обломков. Это удавалось лишь обладателям пробковых нагрудников – остальных быстро увлекала на дно намокшая теплая одежда.
Пытавшиеся освободиться от нее тут же погибали в ледяной воде от холода. Родители отдавали свои нагрудники детям, а сами почти сразу исчезали в пучине. Плоты не защищали пассажиров от пронизывающего ветра и водяных брызг – промокшие люди быстро превращались в неподвижные ледяные статуи. Очевидцы вспоминают собаку-поводыря, из последних сил тянувшую к борту шлюпки своего уже мертвого слепого хозяина: судьба замерзающих на плотах и в шлюпках людей зависела только от быстроты подхода спасателей.
Еле слышный сигнал бедствия с лайнера был принят на тральщике “м-341”. К месту катастрофы направились все суда и корабли, находившиеся поблизости. Уже через четверть часа после взрыва на помощь пассажирам “густлоффа” шли сквозь шторм “геттинген” и “м-341”, “леве” и “тф-19”, траулер “в-1703” и беженский пароход “готланд”, наконец, тяжелый крейсер “адмирал хиппер” (тоже битком набитый беженцами) под эскортом миноносца “т-36”, сторожевика “тс-2” и тральщика “м-375”. Когда последние спасатели подоспели к месту катастрофы, 45 минут мучительной агонии лайнера уже истекли, и его изуродованный корпус двинулся в свой последний шестидесятиметровый путь на дно балтики.
Все еще зачем-то находившаяся поблизости советская подлодка была обнаружена, атакована глубинными бомбами и отогнана. В более теплых водах разрывы глубинных бомб обрекли бы на смерть всякого, кто находился в воде, но бесчисленные детские головки, подобно темным поплавкам пассивно покачивавшиеся на волнах среди шлюпок и плотов, подтверждали, что никакие бомбы им давно уже не страшны. Обмороженных, безумных, потерявших сознание поднимали в сетках или на руках. Из эвакуируемых на “густлоффе” раненых, инвалидов, стариков уцелели считанные единицы.
Среди 9343 погибших одну треть составили дети, хотя спасательные нагрудники взрослые отдавали в первую очередь им. Всего же за страшную ночь с 30 на 31 января удалось спасти 1239 человек, но дожить до рассвета было суждено далеко не всем. “Подвиг” между загулами. Гибель “густлоффа” лишила жизни множество людей, но одного человека она спасла.
Этим человеком был капитан 3 ранга александр маринеско. В январе 1945 года командующий балтийским флотом принял решение предать командира “с-13” суду военного трибунала за самовольное оставление корабля в боевой обстановке. Исполнение решения отложили с условием искупления вины в боевом походе. Следует отметить, что предшествовавший “атаке века” загул маринеско в финском порту турку не был в его флотской карьере чем-то из ряда вон выдающимся.
Еще в первые месяцы войны (в октябре 1941 года) его, после ряда дисциплинарных взысканий, исключили из кандидатов в члены партии с формулировкой “за систематическую пьянку, за развал дисциплины, за отсутствие воспитательной работы среди личного состава, за неискренние признания своих ошибок”. Даже в самый трагический для голодного ленинграда 1942 год мы снова читаем в боевой характеристике маринеско: “в походах личная дисциплина хорошая, на берегу склонен к частым выпивкам”. Все то же констатирует раздел его аттестации “заключение старших начальников” и в 1944 году: “необходимо указать на продолжающиеся случаи аморальных явлений, несмотря на указания в прошлой аттестации. Командир бригады подлодок контр-адмирал верховский”.
Нетрудно представить, чем завершился бы трибунал для офицера с такой репутацией, вернись он из “испытательного” похода с пустыми руками – в военное время командиров расстреливали и за куда меньшие преступления, нежели оставление подлодки ради пьянки в компании иностранной шлюхи. Словом, в начавшемся 11 января плавании для маринеско на карту было поставлено все. Но проходила неделя за неделей, а шансов избежать трибунала у героя новогоднего загула не появлялось: все его попытки атаковать встречные конвои последовательно срывались активным противодействием немцев. Впрочем, что конвои: даже обнаруженный 29 января одинокий транспорт сумел обратить “с-13” в бегство огнем из своей автоматической пушки.
И вот, через двадцать дней похода, пути маринеско, наконец, пересеклись с неохраняемой мишенью – “густлоффом”. а еще 10 дней спустя – с пассажирским госпитальным судном “генерал фон штойбен”, которое сопровождалось лишь старым учебным миноносцем “т-196”. Причем в боевом донесении командир “с-13” запечатлел уничтожение двух с половиной тысяч раненых и беженцев со “штойбена” как потопление легкого крейсера, шедшего под эскортом трех миноносцев, а в книге “личный враг фюрера” штурман маринеско николай редкобородов доводит перечень противников своего командира и вовсе до эпических размеров: “со всей ответственностью утверждаю, что 10 февраля 1945 года лодкой “с-13″ потоплен крейсер фашистской германии в охранении шести эскадренных миноносцев”. Но, крейсером ли являлась жертва атаки “с-13” или госпитальным пароходом, а трибунала можно было более не опасаться.
Помимо бренной славы, двенадцать тысяч детских и взрослых трупов обернулись для маринеско и вполне материальным воздаянием, о котором в том же “личном враге” говорится так: “:”с-13” в составе соединения перешла в либаву к постоянному месту базирования. Имея на палубе автомобиль “опель”, приобретенный командиром в военторге. На призовые деньги за утопленные суда”. Всего через полгода после “атаки века” карьера ее героя завершилась следующей аттестацией командира дивизиона подлодок линденберга: “будучи в базе и на берегу, маринеско вел себя крайне недисциплинированно, проявлял недостаточную требовательность к подчиненным, а к себе никакой требовательности не предъявлял.
В результате чрезмерного употребления спиртных напитков маринеско страдает эпилептическими припадками, которые за последнее время значительно участились. Он разлагал не только личный состав своего корабля, но и разлагающе действовал на офицеров и личный состав других кораблей. Считаю, что в настоящее время капитан 3 ранга маринеско к службе на флоте непригоден”. 14-го сентября 1945 года приказом адмирала флота кузнецова маринеско был отстранен от занимаемой должности и понижен в звании до старшего лейтенанта, а 20 ноября ему пришлось навсегда уйти с флота в отставку.
Статья взята с: http://domikorabl.ru