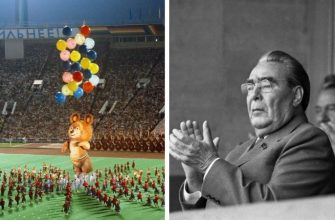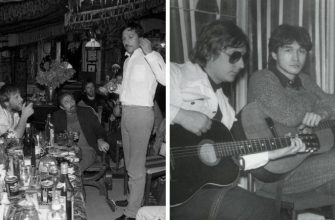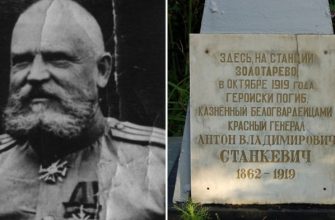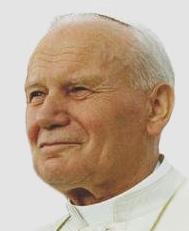 Кароль Войтыла, родился в 1920 г. в местечке Вадовицы близ Кракова (Польша) в семье железнодорожника. Рано потерял родителей. В годы немецкой оккупации был рабочим, шахтером, играл в любительском театре. В 1946 г. стал священником, а в 1958 г. возведен в епископы, в 1964 г. назначен архиепископом Краковским, в 1967г. получил из рук Павла VI кардинальскую шапку. Был участником Второго Ватиканского собора. Говорит на нескольких языках, в том числе по-русски. 16 октября 1978г. избран папой, принял имя Иоанна Павла II.
Кароль Войтыла, родился в 1920 г. в местечке Вадовицы близ Кракова (Польша) в семье железнодорожника. Рано потерял родителей. В годы немецкой оккупации был рабочим, шахтером, играл в любительском театре. В 1946 г. стал священником, а в 1958 г. возведен в епископы, в 1964 г. назначен архиепископом Краковским, в 1967г. получил из рук Павла VI кардинальскую шапку. Был участником Второго Ватиканского собора. Говорит на нескольких языках, в том числе по-русски. 16 октября 1978г. избран папой, принял имя Иоанна Павла II.
И снова конклав…
Смерть “улыбающегося понтифика” вернула церковь к тому нелегкому состоянию, в котором она оказалась после смерти Павла VI. 33-дневный понтификат Лучани еще больше обострил характерные для современной католической церкви противоречия.
Газета “Монд” писала перед конклавом, что папа римский пребывает слишком далеко и слишком изолированно от повседневной действительности. Он вращается в искусственной атмосфере, в микроклимате государства “не от мира сего”, в котором отсутствует народ, никто никогда не женится и не рождается, где трудятся над досье, за исключением садовников, с которыми любил поболтать Иоанн XXIII. Какой уравновешенностью должен обладать папа, чтобы оставаться человечным в этом замшелом театре, в этом бумажном мирке! Le Monde, 14.10.1979.
Кто же несет ответственность за такие порядки в папском государстве? Зарубежные кардиналы на этот счет не испытывали сомнений: итальянские иерархи, для которых папство являлось на протяжении столетий источником почестей, славы (часто сомнительной!) и баснословных доходов.
Об атмосфере, царившей на этот раз на конклаве, американский священник Эндрю М. Гриюги пишет:
“Кардиналы испытывали огромный пессимизм, вызванный, возможно, тяжестями перелета, возможно, трагической смертью Иоанна Павла или раздражением по поводу обвинений в его насильственной смерти, а также отравляющей атмосферой римской курии. Куриальные чиновники всюду видят угрозу атеизма, агностицизма, коммунизма, они считают, что церковь ждут сплошные несчастья”.
Следует ли удивляться, что на этот раз прибывшие на конклав зарубежные кардиналы более решительно высказывались не только за избрание папы-неитальянца, но и за то, чтобы впредь в избрании главы католической церкви участвовали представители национальных епископатов, а сам папа был лишен монарших прерогатив и управлял церковью при содействии Синода. В свою очередь кардиналы Сири, Бенелли и их сторонники высказывались за избрание куриального кардинала, обладающего необходимым опытом работы в церковном аппарате и в международных делах, отсутствие которого якобы сделало для Лучани папскую должность непосильным бременем.
По единодушному мнению кардиналов, конклав предстоял долгий и трудный. Он действительно оказался очень трудным, хотя и не слишком долгим (он продолжался 72 часа). Потребовалось семь туров голосований, чтобы из пресловутой трубы над Сикстинской капеллой повалил белый дым — сигнал об избрании нового понтифика. Им оказался 58-летний польский кардинал, архиепископ Краковский Кароль Войтыла (во время конклава, сообщали газеты, он читал “марксистский философский журнал”), принявший имя Иоанн Павел II.
Избрание Войтылы явилось для всех еще большей неожиданностью, чем избрание его предшественника Лучани. До конклава имя нового папы не фигурировало ни в одном из прогнозов, ни один компьютер не назвал его среди “папабилей”.
С избранием Войтылы впервые с 1523 г. папой стал иностранец. Возраст нового понтифика — для папы почти что юношеский — тоже был необычным явлением для Ватикана. Обращало на себя внимание и то обстоятельство, что новый глава католической церкви являлся гражданином социалистической Польши.
Чем же объяснить такой неожиданный выбор конклава? Однозначного ответа на этот вопрос, по-видимому, нет. У каждого кардинала были свои причины голосовать за Войтылу. Одни голосовали за него в пику итальянским кардиналам. Другие видели в нем традиционалиста, который удержит церковь от “сползания” влево. Третьи считали, что возведение польского кардинала на папский престол было лучшим опровержением пачеллианской легенды о “церкви молчания” в странах социализма. Эту легенду опровергает сам жизненный путь нового папы.
Войтыла родился в 1920 г. в небольшом городке Вадовицы в Краковском воеводстве. Его отец служил офицером в австро-венгерской армии, а после образования буржуазной польской республики работал железнодорожником в Вадовицах. Кароль Войтыла закончил гимназию. Во время немецко-фашистской оккупации трудился рабочим, шахтером, был режиссером и актером полулегального Рапсодийного театра, вступил в подпольную католическую семинарию. В 1946 г. стал священником, затем учился в Риме, во Франции и Бельгии. Одно время преподавал теологию в семинарии в Кракове и в католическом университете в Люблине. В 1958 г. 38-летний Войтыла стал епископом, в 1964 г. – архиепископом Кракова. В 1967 г. Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Кароль Войтыла был вице-председателем национальной конференции польских епископов, принимал участие во всех сессиях Второго Ватиканского собора, являлся членом постоянного секретариата Синода, состоящего из 12 человек.
До своего избрания на папский престол Войтыла побывал в ФРГ, Австралии, США. В 1976 г. он читал лекции по теологии в Гарвардском университете. Неоднократно встречался со Збигневом Бжезинским, советником по вопросам национальной безопасности президента Картера. З.Бжезинский присутствовал на церемонии интронизации Войтылы в Риме. В молодости Войтыла писал стихи и печатал их под псевдонимами Анджей Явень и Станислав Анджей Груда. Ходят слухи, что в годы оккупации будущий папа был якобы помолвлен, но его невеста погибла в концлагере.
В Польше Войтыла проявлял большой интерес к вопросам этики, морали, секса и их отношения к религии. В его трудах на эти темы отражаются традиционные взгляды церкви: он рассматривает проблемы нравственности в отрыве от общественных отношений – как “вечные”, неизменные категории.
В политическом плане Войтыла является продуктом специфических польских условий. Известно, что в народной Польше роль церкви была далеко не однозначной. С одной стороны, церковь вынуждена была согласиться с отделением от государства, признать внешний и внутренний курс народной власти, с другой — она всегда старалась сохранить и расширить свое не только религиозное, но и политическое влияние на массы, настойчиво требуя предоставления ей все больших прав и привилегий. Претендуя на роль защитника прав человека, ревнителя гуманизма и поборника национальной культуры, церковное руководство противопоставляло себя народной власти, хотя и избегало “перегибать палку”, обострять отношения с государством, доводить их до конфликтных ситуаций. Такая позиция церкви привлекала к ней симпатии различных антисоциалистических элементов. Проявляли к ее деятельности повышенный интерес и пропагандистские службы в США.
Следует ли удивляться в свете сказанного, что избрание польского прелата на папский престол породило на Западе всякого рода спекуляции и надежды заиметь в его лице союзника в борьбе с коммунизмом.
Подобного рода спекуляциями западные пропагандисты пытались скрыть то обстоятельство, что избрание Войтылы отражало глубокий кризис, охвативший в последние годы католическую церковь, что оно явилось результатом решительного поражения правой группировки итальянских кардиналов, в руках которой находился до недавнего времени куриальный аппарат.
И все же, несмотря на различные толкования и прогнозы, мировая общественность в целом благожелательно встретила возведение польского кардинала Войтылы на папский престол.
Битва в Пуэбле
Еще не так давно папы римские не ездили далее своей летней резиденции Кастель Гандольфо. Первым папой, отважившимся на поездку за границу, да к тому же самолетом, был Павел VI. Он побывал с краткими визитами во многих странах. Свою первую заграничную поездку Павел VI совершил пять лет спустя после своего избрания на папский престол, новый же глава католической церкви папа Войтыла уже в первый год своего понтификата начал путешествовать по белу свету и успел посетить Доминиканскую Республику, Мексику, Польшу, Ирландию, США и Турцию. Эти его странствия вызвали многочисленные комментарии мировой печати.
Свой первый зарубежный выезд папа совершил в Мексику, где еще при жизни Павла VI планировалось провести III конференцию латиноамериканского епископата (СЕЛАМ). Сперва ее отложили из-за смерти папы Монтини, а потом из-за кончины папы Лучани перенесли на начало февраля 1979 г. Иоанн Павел II сообщил, что он лично посетит это мероприятие. Его заявление в силу ряда причин обратило на себя всеобщее внимание.
Дело в том, что Латинская Америка, где проживает в настоящее время около 40% всех католиков, является одним из самых тревожных и взрывоопасных регионов в мире. Особенно обострилось положение здесь в последнее десятилетие. В ряде стран установились ультрареакционные диктаторские режимы, выдающие себя за защитников христианских идеалов от коммунистической угрозы. Эти режимы удерживаются у власти только благодаря поддержке определенных кругов США и безудержному террору. Они применяют изощренные пытки против демократов, на их совести тысячи замученных, убитых и “исчезнувших” патриотов. Таким образом они пытаются сохранить незыблемым социальный порядок, при котором массы трудящихся города и деревни живут в нищете и бесправии.
В прошлом католическая церковь в Латинской Америке выступала как оплот олигархии, защищая существующий порядок и осуждая любое стремление к социальным переменам. Это нанесло ей большой вред. Церковь повсеместно стала терять свои позиции, от нее стали отходить верующие. Второй Ватиканский собор внес существенные поправки в эту пагубную для церкви ориентацию, призвал духовенство способствовать укреплению мира во всем мире, социальному прогрессу, развитию народов. Новый, обновленческий курс церкви нашел свое выражение в двух энцикликах — “Мир на земле” папы Иоанна XXIII и “Развитие народов” папы Павла VI. В Латинской Америке соборная ориентация церкви была воплощена в решениях II конференции латиноамериканского епископата в Медельине в 1968 г., на открытии которой присутствовал папа Павел VI.
Разумеется, такой поворот в ориентации церкви устраивал далеко не всех ее деятелей. Как в Европе, так и в Латинской Америке церковь разделилась на два противоборствующих лагеря: обновленцев и интегристов. Радикальных обновленцев в Латинской Америке называют также сторонниками “мятежной церкви” или “теологии освобождения”. Под последним термином подразумевается обоснование богословскими аргументами, ссылками на священное писание, папские энциклики и другие церковные документы необходимости борьбы за социальные преобразования.
После Медельинской конференции СЕЛАМ возросло участие церковнослужителей в общедемократическом освободительном движении. Так, например, в Чили католическая иерархия, за немногими исключениями, решительно осуждает злодеяния пиночетовского режима, оказывает помощь его жертвам. В Никарагуа церковь сочувственно относилась к борьбе народа за свержение одиозного режима Сомосы. Венесуэльское правительство направило папе Иоанну Павлу И подробную информацию о положении в Никарагуа с призывом выступить в Пуэбле в защиту ее народа. В Бразилии, крупнейшей латиноамериканской и католической стране, многие служители церкви активно выступают за демократизацию общественной жизни, за амнистию политзаключенным, за осуществление коренных социальных преобразований. Подобные явления происходят и в других странах этого континента.
Отход многих церковных деятелей и католических активистов от традиционных позиций, их участие в борьбе народов за свое освобождение были встречены реакционными кругами Латинской Америки со скрежетом зубовным. На прогрессивных священников обрушились не только потоки площадной брани и низкопробной клеветы, но и прямой террор. Их стали бросать в тюрьмы, подвергать пыткам, убивать, высылать за пределы родины. Многие представители обновленческого крыла духовенства, такие, как чилийский кардинал Рауль Сильва Энрикес, бразильский архиепископ Элдер Камара, мексиканский епископ Мендес Арсео и другие, стали жертвами покушений, угроз и шельмования со стороны власть предержащих. Хотя все это является вопиющим нарушением прав человека, в данном случае рьяные “защитники” этих прав, которыми так изобилует теперь Запад, обходят гробовым молчанием факты расправ Пиночета и подобных ему тиранов над служителями церкви.
Деятельность “мятежных священников” встречается в штыки и церковными интегристами. Последних поддерживают христианские демократы из ФРГ, пересылающие ежегодно своим сторонникам в Латинской Америке 40 млн. долларов через церковную организацию “Адвениат”. В этой связи заслуживает внимания меморандум, составленный в ноябре 1977г. группой из ста западногерманских католических богословов, в котором признавалось, что католическая церковь в Федеративной Республике Германии проводит враждебную кампанию против сторонников “теологии освобождения” и связанных с нею движений.
Конференция СЕЛАМ привлекала к себе всеобщее внимание в первую очередь тем, что она была призвана ответить на острейшие политические вопросы, волнующие сегодня католиков этого региона. Президент СЕЛАМ бразильский кардинал Алоизиус Лоршейдер сформулировал эти вопросы так: “Как быть и продолжать оставаться христианином, находясь среди миллионов эксплуатируемых и отверженных людей, как решить проблему крайней нищеты миллионов христиан, живущих на христианском континенте?” Resales J. Sobre la Conferencia Episcopal de Puebla. Buenos Aires, 1979, p. 4.
От ответов на эти вопросы зависело в известной степени будущее католической церкви в целом.
Интерес к III конференции СЕЛАМ объяснялся и тем, что она должна была состояться в Мексике, стране, история которой изобилует эпизодами острейшей борьбы церкви с государством, принимавшей часто характер затяжных войн.
Но Мексика известна также и тем, что многие ее церковники осуждали союз церкви с колонизаторами. Именно с таких позиций выступали в начале конкисты монах Бартоломе де Лас Касас, герои борьбы за независимость – священники Идальго и Морелос, священник Мора, требовавший секуляризации церковной собственности, и другие, навлекшие за это на себя гнев и осуждение церковных иерархов.
С 1857 г. Мексика не имеет дипломатических отношений с Ватиканом, с того же года церковь в этой стране отделена от государства. Мексиканская конституция ограничивает деятельность церкви: духовенству не разрешается носить священническое одеяние за пределами культовых помещений; запрещен иезуитский орден и деятельность священников-иностранцев; священники лишены права участвовать в выборах и быть избранными в законодательные органы, обладать недвижимой собственностью, подвизаться на ниве просвещения. В последние десятилетия в связи с отказом церкви от насильственных действий против государства ее отношения с властями потеряли былую остроту, и в настоящее время многие антиклерикальные статьи мексиканского законодательства церковью не соблюдаются.
Мексиканское правительство разрешило папе римскому прибыть в страну и участвовать в открытии конференции СЕЛАМ в Пуэбле, а президент Мексики оказал главе католической церкви вежливый неофициальный прием. Правые же группировки в стране использовали приезд Иоанна Павла II По пути в Мексику Иоанн Павел II сделал краткую остановку в Санто-Доминго, где посетил местный кафедральный собор., как отмечалось в печати, для разжигания злобной антикоммунистической пропаганды. Группа крупных мексиканских предпринимателей обратилась к папе с письмом (текст его распространялся в Пуэбле), в котором содержались грубые выпады против социализма и атеизма как “противоречащих христианской доктрине и правам человека”.
Как писала близкая к правящей партии мексиканская газета “Диа”, прибытие в страну главы католической церкви послужило предлогом для того, чтобы консервативные группировки вывели на улицы свои боевые силы. Вместе с флагами Ватикана они распространяли среди миллионов мексиканцев антикоммунистические и антиправительственные заявления. Присутствие папы оказывало на мексиканские правые силы будоражащий эффект.
Незадолго до открытия конференции в Пуэбле стало известно, что в подготовке основного доклада на тему “Евангелизация сегодня и ее будущее в Латинской Америке” участвовал небезызвестный бельгийский иезуит Вакеманс, подвизавшийся в 60-х годах в Чили и впоследствии разоблаченный как агент ЦРУ Peoples World, 27.01.1979.. Обновленцев возмутил этот факт, как и интегристское содержание самого доклада и по их настоянию он был в значительной степени переработан.
Наиболее активные из обновленцев заявили, что они проведут параллельно в Пуэбле свою собственную конференцию. Среди многочисленных обращений и посланий в адрес конференции различных церковных и светских католических организаций с призывом более активно выступать против реакционных режимов, за социальные преобразования особенно выделялась декларация влиятельной Латиноамериканской конфедерации монахов и монахинь (КЛАР), объединяющей 170 тыс. клириков. Подписанная президентом КЛАР отцом Луисом Патио, эта декларация требовала, чтобы церковь в соответствии с решениями Второго Ватиканского собора и Медельинской конференции способствовала социальной справедливости и общественному прогрессу всех народов Латинской Америки.
Направил в адрес конференции послание и архиепископ Элдер Камара. Он предупредил участников конференции: суд истории беспощаден, и они будут отвечать перед богом за свои решения. “Тем, кто считает, что Латинская Америка слишком спешит по пути освобождения, напоминаем, — писал архиепископ, — что она ждет его уже свыше четырех с половиной веков…” Элдер Камара потребовал осудить антинародные действия многонациональных компаний, грабящих вместе с другими эксплуататорами народы Латинской Америки В этой связи примечательна характеристика таких компаний генералом иезуитского ордена Аррупе. “Мультинациональные компании, промышленные гиганты и политические группировки власть имущих существуют, – сказал он, – в частности, и потому, что христиане являются их создателями, руководителями и послушными клиентами”. См.: Resales J. Sobre la Confeiencia Episcopal de Puebla, p. 38.. “Не бойтесь, – призывал архиепископ, —дойти до осуждения вредного и ошибочного присутствия ЦРУ в жизни наших народов. Такое осуждение входит в вашу миссию, если стоит под вопросом судьба чад божьих на нашем континенте”. Перед Латинской Америкой, признавал бразильский архиепископ, “церковь в долгу, в некотором смысле мы сами подтверждаем правоту Маркса, предлагая угнетенным опиум” IDOC Internazionale. Roma, N 6-7, Giugno-Luglio, 1978, p. 160..
Послание Камары было более чем обоснованно, если учесть сообщения мексиканской печати, что по указанию президента Картера ЦРУ “усилило проникновение в религиозные и светские католические организации и наблюдение за ними”, опасаясь, как писала газета “Эксельсиор”, превращения Латинской Америки в “католический Иран” Resales J. Sobre la Conferencia Episcopal de Puebla, p. 29.. Архиепископ Куин, глава американской конференции епископата, в свою очередь обвинил США в том, что они “в значительной степени виновны в нищете Латинской Америки” и “опасаются, что церковь разбудит сознание 100 миллионов латиноамериканцев, живущих в условиях чрезвычайной бедности” Ibidem..
Пытались повлиять на конференцию СЕЛАМ в Пуэбле не только прогрессисты, но и ультраправые. Архиепископ Лефевр выразил уверенность, что, посетив Мексику, папа убедится, насколько серьезно там положение церкви. Фашиствующий диктатор Чили Пиночет призвал участников конференции в Пуэбле “отвергнуть марксистские методы”, а в самой Пуэбле перед открытием конференции интегристы устраивали шумные шествия с лозунгами: “Христианизм – да, коммунизм— нет!”, “Да здравствует папа! Смерть теологии освобождения!”, “Мы предпочитаем диктатуру Пиночета социалистической Кубе” Resales J. Sobre la Conferencia Episcopal de Puebla, p. 4; Messagero, 13.02.1979..
Иоанн Павел II за пять дней своего пребывания в Мексике выступал около 30 раз, в том числе перед журналистами по радио и телевидению. Уже в своей первой речи перед клиром в Мехико 27 января 1979 г. папа ясно дал понять, что он осуждает любые отклонения от традиционной линии церкви. “Поддерживайте бедняков, —сказал папа священникам,— но не уступайте социально-политическому радикализму, который со временем оказывается несостоятельным и приводит к результатам, противоположным искомым”. Папа предупредил служителей церкви: “Вы не общественные деятели, не политические лидеры и чиновники светской власти. Я повторяю вам: не питайте иллюзии, что, стараясь решить мирские проблемы, вы служите Евангелию” Le Monde, 30.01.1979..
Программный характер носило его выступление 29 января 1979 г. на открытии конференции СЕЛАМ. В нем папа недвусмысленно призвал отойти от решений предыдущей конференции в Медельине, которые, как он отметил, неправильно или ошибочно истолковывались священниками. Глава католической церкви осудил “теологию освобождения”, заявив, что неверно считать Христа революционером, политиком, бунтарем. Папа отверг “новое прочтение” Библии, в которой сторонники “теологии освобождения” видят революционное содержание. Церковь, заявил далее папа, осуждает социальную несправедливость, но она должна бороться против нее не политическими методами, не сближаясь с той или другой философией или идеологией, а путем морального совершенствования человека, ибо зло заключается не в социополитических структурах капитализма, а в том, что человек лишен ныне своей абсолютной силы — веры. Получается, что корень всех бед и несчастий эксплуатируемых масс — в их возрастающем атеизме! Вместе с тем папа уверял бедняков, что при всей их бедности они не лишены своих маленьких радостей, а отсутствие излишеств и роскоши ставит их якобы выше богачей. Это была старая, хорошо известная трудящимся “песня”.
По свидетельству печати, утешения со стороны главы церкви были встречены двухсоттысячной толпой, слушавшей папу, громкими свистками и негодующими возгласами Принимая в сентябре 1979 г. в Ватикане руководство колумбийского епископата, Иоанн Павел II вновь повторил, что не следует представлять Христа как “политического деятеля, борца против римского господства, замешанного в классовую борьбу” (Tiempo, 26.01.1979)..
Вызвало недоумение и обращение папы к Гваделупской божьей матери, покровительнице Мексики, с просьбой “охранить нации и народы всего континента от войн, ненависти и подрывных действий” El Espectador, 29.01.1979.. Что папа имел здесь в виду? Заметим, что Пиночет и ему подобные палачи народов континента, стремясь оправдать свои преступления, также ссылаются на необходимость подавлять подрывные элементы и сеятелей ненависти. Совпадение весьма знаменательное, если не сказать больше.
Так, новый папа выступил в Пуэбле с традиционной для католической церкви платформой. При этом он красноречиво умолчал о наличии фашистских диктатур в Латинской Америке, о сотнях священников и католических деятелях, замученных или подвергнутых пыткам в застенках Пиночета, Сомосы и им подобных тиранов, о роли США в закабалении народов Латинской Америки.
Следует ли удивляться, что такая позиция папы была весьма прохладно встречена многими видными католическими деятелями Латинской Америки, тем более что призыв оставить политику довольно странно звучал в устах главы церкви, отличающегося прямо-таки болезненной приверженностью к политической деятельности. А разве осуждение папой “теологии освобождения” не является политическим актом, направленность которого вполне однозначна?
Это и другие сомнения по поводу такой позиции папы были высказаны латиноамериканскими прелатами-обновленцами. Участник конференции в Пуэбле епископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро сказал: “Теология освобождения обоснованна, борьба классов вовсе не выдумка священников (обновленцев), но продукт системы, возникшей в результате противоречия между разными социальными группировками”. С ним согласился эквадорский епископ Рио Бамбы Леонидас Проаньо, который добавил: “Необходимо трудиться, чтобы изменить структуру латиноамериканского общества, в котором более ста миллионов человек живут в условиях крайней нищеты”. Кардинал Алоизиус Лоршейдер призвал церковь “найти соответствующие средства, чтобы не допустить существования тираний в Латинской Америке”. Мексиканский епископ Куэрнаваки Мендес Арсео прямо заявил, что церковь не должна возвращаться на позиции, предшествовавшие конференции в Медельине.
В западноевропейской, в частности итальянской, печати выступление папы в Пуэбле также получило негативную оценку. В комментарии газеты “Унита”, озаглавленном “Явная предвзятость и нотки интегризма в речи папы Войтылы в Пуэбле”, отмечалось, что эта речь “характеризовалась жесткой предвзятостью по отношению к прогрессивным тенденциям и новаторским течениям, наблюдающимся в католической церкви”.
Речь папы, говорится там же, не содержала никакого анализа структур и никакой критической оценки военных диктатур и философии так называемой “национальной безопасности”, на которую ссылаются авторитарные правительства, для того чтобы оправдать свою антикоммунистическую, антидемократическую репрессивную и дискриминационную политику в экономической, социальной и политической областях. Она ограничилась призывом, выдержанным в морализаторском тоне.
Влиятельная итальянская буржуазная газета “Джорно” отмечала, что “программа папы Войтылы является шагом назад ло сравнению с позицией, которую занимал Павел VI в последние годы своего пребывания на папском престоле…”.
В свою очередь ультраправая газета “Джорнале” в статье под заголовком “Папа придерживает штурмующих епископов” выражала удовлетворение в связи с тем, что Иоанн Павел II”осудил новые теории, направленные на искажение евангельского учения”.
Ввиду негативных откликов на его речь в Пуэбле Иоанн Павел II был вынужден в срочном порядке вносить изменения в подготовленные тексты его последующих выступлений в Мексике и более решительно высказываться в поддержку требований о незамедлительности социальных преобразований. Так, выступая 1 февраля 1979 г. перед рабочими города Монтеррей, папа уже говорил о необходимости “смелых обновлений и изменений в целях преодоления серьезных несправедливостей, унаследованных от прошлого” Los discursos del Papa Juan Pablo II. Documcntos do Puebla. – Estudios Ccntroamericanos. Marzo. 1979, p. 184.. Но тут же пояснил, что эти перемены должны противостоять “призыву к преобразованию человечества”. Не подразумевал ли папа под этим последним социальную революцию? Такими намеками и оговорками, как правило, сопровождались все его высказывания на тему о социальной справедливости.
По поводу выступлений папы в Мексике “Юманите” писала: “Иоанн Павел II сумел приспособиться к разным аудиториям, не стесняясь проявлять свои эмоции перед очевидными фактами нищеты, хотя всегда избегал затрагивать жгучий вопрос о причинах нищеты. Отказывая священникам и епископам в праве вмешиваться в политику, сам папа широко пользуется этим правом”.
Та же газета писала по поводу высказываний папы о правах человека: “Широкая пропагандистская кампания пытается представить бывшего архиепископа Кракова как “папу — поборника прав человека”, который решился защищать их перед тоталитарным государством. Однако в отношении диктаторов Латинской Америки Кароль Войтыла был чрезвычайно сдержан в своих высказываниях. Его концепция прав человека более чем избирательна ” L’Humanite, 5.02.1979.. О “двойной бухгалтерии” папы в Мексике писала также “Монд” Le Monde, 2.02.1979..
Как уже говорилось, высказывания папы Войтылы в Мексике встретили решительную оппозицию в среде латиноамериканских священников, что вынудило конференцию СЕЛАМ принять декларацию, учитывавшую многие требования прогрессивного крыла духовенства. Одобренный единодушно (при одном воздержавшемся) документ под названием “Евангелизация Латинской Америки в настоящем и будущем” призывает священников объединить свои усилия с другими культами и “людьми доброй воли” в борьбе против нищеты и за создание более справедливого и братского мира. Этот документ осуждает репрессивные военные режимы в Латинской Америке, совершающие преступления под предлогом защиты “западной цивилизации” и христианских ценностей, разоблачает пытки, похищения людей, убийства и прочие злодеяния, практикуемые этими реакционными режимами. В принятом конференцией СЕЛАМ в Пуэбле документе церковь признает, что “она не может… бездействовать в условиях меняющегося мира”, когда “народ страдает и требует справедливости, свободы, уважения основных прав человека”. Недостаточно, говорится в документе, обнажать зло, необходимо вскрывать его “глубинные корни”. Долг верующих -“содействовать созданию более справедливого, более свободного и более мирного общества”.
Однако в части, касающейся способов решения стоящих перед верующими проблем, документ весьма расплывчат и противоречив. Освобождение необходимо, говорится в нем, но нельзя прибегать “к насилию и ссылаться на диалектику классовой борьбы”; структуры менять нужно, но “изнутри”, “путем евангелизации богатых”. Документ осуждает многие репрессивные режимы, но ни один из них конкретно не упоминается, хотя и признается, что “боязнь марксизма мешает многим осудить угнетательскую сущность либерального капитализма”. Документ отвергает обе социальные системы – капитализм и социализм, ставит между ними знак равенства, утверждая, что латиноамериканская церковь должна придерживаться “третьего пути”, предложить миру “нечто новое”; он призывает верующих откликнуться на нужды обездоленных и отверженных, но осуждает “новый и вызывающий беспокойство феномен участия широких кругов священнослужителей в борьбе народа за удовлетворение своих требований” и их стремление к “социальному анализу с сильным политическим акцентом”.
Таким образом, конференция приняла относительно компромиссный документ. Он в известной мере учитывает насущные требования масс и в то же время отражает идеи центристов и консерваторов, ограничивающие его действенность. Поэтому долгая битва между различными католическими течениями (“между церковью, знающей вкус народной похлебки, и церковью, смотрящей на нее издали”, как образно заметил епископ Проаньо) будет продолжаться и после Пуэблы. Каждое из них будет по-своему истолковывать принятый документ Проблемы мира и социализма, 1979, №12, с. 73-74..
Такой итог “битвы в Пуэбле” (так окрестила западная печать конференцию СЕЛАМ) закономерен. Как заявил журналистам директор социального департамента СЕЛАМ монсиньор Дуарте, “если церковь сегодня не займет ясную и мужественную позицию по вопросам социальной справедливости и человеческим правам, она потеряет доверие (верующих)”.
Папа был вынужден согласиться с этими решениями конференции СЕЛАМ в Пуэбле. На обратном пути в Рим он направил с борта самолета дружественное послание Фиделю Кастро с пожеланиями успехов и процветания кубинскому народу.
Подводя итоги конференции СЕЛАМ в Пуэбле, прогрессивный публицист Хуан Росалес пишет: “В лоне церкви, в широком народном христианском движении бурлят огромные силы, ищущие свой путь. Процесс их радикализации отличается небывалой глубиной. Но он неоднороден, зачастую протекает в отрыве от борьбы рабочего класса, призванного выполнять объединительную и руководящую миссию в массовом движении, не испытывает влияния его революционных идей. Не будучи связанным с массовым движением, этот процесс может свестись к безобидному протесту, утопическому реформизму или к ультралевацкому ослеплению. Реакция хотела бы вбить клин между рабочим классом и его союзниками. Коммунисты же, наоборот, пытаются привлечь сторонников пролетариата к совместной борьбе за демократические и антиимпериалистические перемены.
Ведя дискуссию с католиками, коммунисты выдвигают на первый план общие цели трудящихся масс, и прежде всего те, осуществление которых содействует совместному строительству жизни без страха перед будущим, без нищеты, без невежества, без национального порабощения и без эксплуатации человека человеком” Проблемы мира и социализма, 1979, № 12, с. 74..
Возвращение на “круги своя”
Вскоре после возвращения из Мексики папа совершил еще одну поездку, на этот раз к себе на родину —в социалистическую Польшу. Об этом визите в печати заговорили сразу же после избрания Войтылы на папский престол. Пропагандистские службы Запада, понимая, что сам этот факт подрывает муссировавшуюся десятилетиями легенду о “преследовании” религии в социалистических странах, распространяли всякого рода панические слухи о якобы неминуемых столкновениях между руководством народной Польши и новым понтификом. Эти службы утверждали, что польские власти не допустят визита нового папы в Польшу. Некоторые церковные деятели, как, например, кардинал Кёниг, говорили, что поездка папы в Польшу вызовет “психологическое землетрясение” во всей Восточной Европе.
Когда же народная Польша пригласила нового папу прибыть на родину в удобное для него время, те же пропагандистские службы стали наводить тень на плетень по поводу того, что предполагаемый визит папы совпадал с 900-й годовщиной гибели краковского епископа Станислава, казненного по приказу короля Болеслава Храброго. Церковь превратила Станислава в великого мученика, пример стойкости и мужества. Пример неудачный, ибо епископ Станислав участвовал в заговоре феодалов, целью которого было расчленить Польское государство на отдельные земли, за что он и поплатился жизнью. По-видимому, кое-кто на Западе мечтал превратить папу Войтылу во второго Станислава.
В атмосфере таких слухов, распространяемых пропагандистскими органами Запада, начал Иоанн Павел II свой визит в Польшу в июне 1979 г.
Папа Войтыла посетил Варшаву, Краков и еще пять городов, а также бывший лагерь смерти Освенцим, где гитлеровцы замучили в годы войны 4 млн. узников разных национальностей. Повсеместно папа служил молебны, выступал. При этом не произошло ничего такого, за что могла бы ухватиться враждебная социализму пропаганда. Девятидневный визит папы в социалистическую Польшу прошел организованно, спокойно.
При чтении некоторых комментариев западной прессы на визит Иоанна Павла II в ПНР, писал польский двухнедельник “Политика”, создавалось впечатление, что их авторы были бы удовлетворены только в том случае, если бы в Польше началась религиозная война. “Во время пребывания в нашей стране Иоанна Павла II, – отмечала “Политика”, – Польша трудилась как обычно. Покидая места, где происходили молебны, люди возвращались к своему привычному труду. Они создают материальные и духовные ценности, которыми пользуются и благодаря которым народная социалистическая Польша укрепляет свои позиции среди народов мира… В оценке вклада каждого поляка в развитие нашей страны решающим является не то, во что он верит, а его патриотизм и участие в реализации социально-экономической программы. Это единственный разумный и отвечающий интересам народа и социализма критерий оценки гражданина народной Польши” Polityka, N25, 23.06.1979..
В день прибытия нового главы католической церкви в Варшаву состоялась его встреча с руководством ПНР. Папа поблагодарил польские власти за предоставленную ему возможность посетить родину и выразил радость по поводу любого блага, которым пользуются его соотечественники, — “блага, независимо от его происхождения и предпосылок”. Он пожелал Польше больших достижений во всех областях. Подчеркнув свою приверженность ко всеобщему миру, Иоанн Павел II выразил уважение к усилиям польских руководителей, направленным на обеспечение общего блага соотечественников, а также подлинных интересов Польши в международной жизни.
Выступая в бывшем фашистском лагере смерти Освенциме, глава католической церкви сказал, что он не мог не посетить это место. “Я пришел сюда, — сказал он, — чтобы преклонить колени перед могилами, в большинстве своем безымянными, перед могилой Неизвестного солдата. Я встаю на колени перед мемориальными досками с памятными надписями на разных языках”.
Указав на мемориальную плиту с надписью на русском языке, папа отметил, что мимо нее нельзя пройти равнодушно, ибо все знают, какую роль сыграл русский народ “в последней, самой страшной войне за освобождение людей”. Освенцим, отметил он,— это свидетельство войны, несущей с собой ненависть, уничтожение, зверства. За войну, заявил Иоанн Павел II, отвечают не только те, кто ее развязывает, но и те, кто ничего не предпринимает, чтобы ее предотвратить. “Пусть никогда больше не будет войны! – заключил он. – Мир, только мир, должен руководить судьбами народов и всего человечества”.
Комментируя эти высказывания папы, центральный орган ПОРП – “Трибуна люду” отмечала, что во время визита Иоанн Павел II неоднократно подчеркивал, что ему особенно близки идеи мира, сосуществования и сотрудничества между народами и различными политическими системами.
“Социалистическая Польша, – писала “Трибуна люду”, – вместе с СССР, другими странами социалистического содружества… относится к государствам, вносящим самый активный вклад в борьбу за мир. С тем большим удовлетворением мы воспринимаем тот факт, что Иоанн Павел II полностью подтвердил желание последовательно “продолжать мирную политику своих предшественников в Ватикане”.
* * *
На протяжении многих лет западная пропаганда распространяла легенду о преследовании религии в странах социализма, легенду о “церкви молчания”. Сколько злобных, нелепых, фантастических измышлений на эту тему было опубликовано в буржуазной прессе и “респектабельных” публикациях. Церковь в народной Польше тоже объявлялась преследуемой, гонимой, унижаемой и оскорбляемой. В последнее время эта клеветническая кампания ведется под предлогом мнимого нарушения прав человека в социалистических странах.
Между тем известно, что Конституция ПНР (как и конституции других социалистических стран) узаконила равноправие граждан независимо от их происхождения, образования, профессии, национальной и расовой принадлежности, религиозных убеждений и места в обществе. И это равноправие гарантируется всей государственной политикой. Нарушение конституционных прав граждан, в том числе и свободы совести, запрещено и сурово карается. Церковь в Польше отделена от государства, и всем религиозным объединениям гарантирована свобода выполнения религиозных функций (ст. 82).
Разумеется, кое-кто на Западе хотел бы обострения отношений между церковью и государством в Польше, хотел бы и стремится вовлечь религиозные силы в свою грязную политическую игру против социализма.
Путешествие в империю доллара
Не успели улечься волны комментариев на поездку папы в Польшу, как западная пресса переключилась на новую тему — намечавшийся в конце сентября — начале октября 1979 г. его визит в Ирландию и США.
Новый визит представлялся весьма острым с политической точки зрения. Ирландский вопрос, положение в Ольстере, уже много лет волнует мировое общественное мнение. Применяемая Англией в Северной Ирландии система колониального угнетения обострила до предела взаимоотношения между местным населением и оккупационными войсками. Известно, что так называемый Европейский суд в Страсбурге признал виновными английские власти в Ольстере в применении пыток к ирландским поборникам независимости. За несколько дней до отъезда папы в Ирландию ирландскими националистами был убит лорд Маунтбаттен, дядя английской королевы. Этот террористический акт был использован британскими властями для новой волны репрессий в Ольстере. Естественно, что в создавшейся обстановке прибытие папы в Ирландию превращалось в политическое событие крупного плана.
Не меньший интерес вызвала и поездка главы католической церкви в Соединенные Штаты. Крупнейшая капиталистическая держава — США в последние десятилетия были замешаны во многих военных конфликтах. США командуют в НАТО, вмешиваются во внутренние дела других стран, проводят различные клеветнические кампании против стран социализма. Не успел президент США поставить подпись под соглашением ОСВ-2, как американское правительство стало навязывать своим западным союзникам новые виды атомного оружия, что угрожает очередным витком гонки вооружений. Сложны внутренние проблемы современных Соединенных Штатов. Экономический спад, рост инфляции, дороговизны, безработицы, потребления наркотиков и преступности, энергетический кризис. Все с понятным любопытством ждали, как откликнется новый папа на жгучие проблемы североамериканской действительности. Многих волновал вопрос, отважится ли папа затронуть теневые стороны американского “образа жизни”, разоблачит ли традиционное лицемерие государственных деятелей США, прикрывающих агрессивные акты и подрывные действия США против некоторых стран, преследования инакомыслящих, расовую дискриминацию и прочие неблаговидные дела демагогическими пассажами о правах человека, о свободе, демократии, вере в бога.
К тому же известно, что в последние годы в делах ватиканских непрерывно растет участие католической церкви США. Американская церковь считается самой богатой и могущественной из всех национальных церквей католического мира. Она ворочает капиталами, объем которых превосходит оборот таких монополий-гигантов, как “Дженерал Моторс” и “Интернейшнл Телефон энд Телеграф компани”. В США насчитывается около 50 млн. католиков, что составляет 40% верующих. Церковная организация — одна из самых разветвленных и многочисленных в мире: 12 кардиналов, 345 епископов и архиепископов, 56 тыс. священников, 30 тыс. монахов, 143 тыс. монахинь, 10 585 школ (4 млн. учеников), 262 университета и колледжа, в которых обучаются 500 тыс. студентов, 107 семинарий и 22 тыс. семинаристов L’Unita, 22.09.1979; Paese Sera, 28.09.1979; El Pais, 2.10.1979.. Вот то войско, которым располагает католическая церковь в США.
На протяжении многих десятилетий американская общественность считала католическую церковь олицетворением косности, ультраконсерватизма, отсталости. Пытаясь пробить себе дорогу “наверх”, церковь в конце XIX в. стала открещиваться от одиозного “папизма”, клясться в любви к техническому и научному прогрессу, к американской демократии. Эта модернистская ересь “американизма” была осуждена папами. Постепенно, однако, руководству католической церкви в США, безоговорочно поддерживавшему существующий капиталистический порядок, удалось заручиться благосклонностью и доверием деловых и политических кругов до такой степени, что в 1961 г. победу на президентских выборах смог одержать кандидат-католик Джон Кеннеди.
В Ватикане держатся за американскую церковь и одновременно смотрят на ее действия с недоверием и подозрением. С догматической точки зрения американские церковники всегда вели себя экстравагантно, позволяя вольности, немыслимые в католических странах. В последние годы в США растет число католиков, критикующих теневые стороны американской действительности, осуждающих расизм и расовую дискриминацию, требующих разоружения и прекращения вмешательства США во внутреннюю жизнь развивающихся стран.
Но Ватикан тревожит не только появление среди американского духовенства воинствующих групп контестаторов. Курия возмущается и тем, что такие щекотливые для церкви вопросы, как развод, аборт, употребление современных противозачаточных средств, брак священников и уравнение монахинь в правах со священниками вплоть до назначения их на высшие церковные должности, не только подвергаются в США широкому обсуждению, но при этом не учитывается официальная точка зрения Ватикана на данные проблемы. А дело объясняется довольно просто: американские священники выступают с таких позиций, потому что боятся растерять паству. По свидетельству руководителя американских иезуитов Винсента О’Кифи, 69% католиков в США выступают за развод и повторный церковный брак, а 73% — за употребление противозачаточных средств.
Но вернемся к поездкам Иоанна Павла II.
Папа, как уже было сказано, начал на этот раз с посещения Ирландии. В правительственных кругах Лондона это вызвало тревогу. Там опасались, что папа может открыто поддержать ирландцев, осудить террор британских властей в Ольстере и потребовать удаления из этого района британских карателей. В Дублине же боялись покушения на папу со стороны протестантских экстремистов. В связи с этим были приняты экстраординарные меры по его охране. 7 тыс. полицейских, 6500 солдат и 14 тыс. волонтеров оберегали его особу во время этого визита. Ирландские власти предупредили, что любой самолет, который появится над местом, где находится папа, будет сбит. Газеты отмечали, что главу католической церкви сопровождали 2 тыс. журналистов.
Ирландия — католическая страна, и первый в истории визит папы римского вызвал среди ирландцев немалый интерес. В течение трех дней, которые провел Иоанн Павел II в Ирландии, он выступал шесть раз на различных церемониях на открытом воздухе.
Лейтмотивом его выступлений была проповедь против насилия, сопровождавшаяся обильными цитатами и ссылками на труды отцов церкви и энциклики римских пап. Войтыла уклонился от глубокого анализа причин, порождающих насилие в Ирландии, не осудил он и зверства английских оккупационных властей и банд оранжистов в Ольстере. По существу, призыв к прекращению насилия был обращен только к ирландцам, совершающим террористические акты. Подобная односторонняя трактовка ирландского вопроса, естественно, никого не могла удовлетворить. Таким образом, хотя поглазеть на папу римского и приходили в Ирландии десятки тысяч людей, его проповедь никак не повлияла на враждующие стороны, которые остались на своих прежних позициях. Ирландская драма продолжает развиваться по своим собственным законам, независимо от мнения на этот счет папы римского. Визит Кароля Войтылы в Ирландию обошелся местной церкви в 2 млн. фунтов стерлингов Le Monde, 28.09.1979.. Сумма немалая для бедных ирландцев, тем более что результаты визита папы никоим образом не компенсировали этих расходов.
Из Ирландии папа римский в сопровождении той же армии журналистов полетел в Соединенные Штаты. Там он пробыл семь дней, посетил Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Де Мойниз, Чикаго, Вашингтон, выступил на заседании в ООН.
Визит в США потребовал от папы немалых усилий. В среднем он был занят по 14 часов в день: произнес более 60 речей, совершил 10 перелетов самолетом, 30 раз летал на вертолете. Папа выступил перед англосаксами, поляками, евреями. Говорил на разных языках, даже сказал несколько слов по-еврейски, целовал детишек, давал интервью журналистам, пел песни, шутил, был доступен, контактен. Особенно хорошо он чувствовал себя, выступая на воздухе перед огромными скоплениями любопытных, туристов, верующих. Всю эту неделю лицо папы не сходило с экранов телевизоров, первых полос газет и журналов.
Если судить по внешним признакам, вояж Иоанна Павла II в США был успешным. Отмечалось, что Павел VI, посетивший США в 1965 г., провел в этой стране всего 14 часов, причем ограничился только выступлением на сессии ООН. Он не посетил даже Вашингтон. Президент Джонсон приехал тогда на встречу с папой в Нью-Йорк. Войтыла же был торжественно принят в Белом доме Картером, который, как сообщали газеты, приветствовал папу на польском языке с “джорджианским акцентом”. В одном из скверов Вашингтона папа отслужил молебен.
Несмотря на большой объем проделанной папой во время визита в США работы, в оценке этого визита журналистами проскальзывали нотки скептицизма. Дело в том, что выступления папы не заключали в себе ничего нового по сравнению с тем же Павлом VI. Папа Войтыла ратовал за мир, за уважение к личности человека, осуждал социальные контрасты, призывал ко всеобщей любви, превозносил христианские ценности, много рассуждал о боге, о вере в него, обильно цитировал церковные авторитеты, но старательно избегал говорить о конкретной обстановке и обо всем, что могло бы бросить малейшую тень на политику правящих кругов США. Более того, папа не скрывал своих симпатий к империи доллара. Он неоднократно падал на колени и целовал американскую землю, много раз в своих выступлениях просил бога ниспослать благословение Соединенным Штатам. В одном, однако, папа Войтыла был тверд, непреклонен, категоричен: он осудил развод, использование противозачаточных средств, аборт и всякие попытки уравнять монахинь в правах со священниками.
Такая позиция Иоанна Павла II не вызвала энтузиазма среди американских католиков, в особенности среди духовенства. Монахиня Тереза Кэйи, президент влиятельной церковной организации Конференция католических настоятельниц, публично выразила свое несогласие со взглядом папы на права женщин в церкви. Другие католические деятельницы оценили высказывания главы церкви как нарушение прав женщин. В печати указывалось в связи с этим, что за последние два года число католиков в США, выступающих за допущение женщин к священническому сану, возросло с 37% до 40%.
Журналисты пытались объяснить, почему папа, человек весьма осведомленный, занял в указанных вопросах столь консервативную позицию. По мнению “Нью-Йорк тайме”, это было результатом стремления папы укрепить единство и дисциплину в рядах духовенства, сильно подорванную в последние годы различными центробежными тенденциями. По-видимому, папа считает, что добиться этого можно, только отстаивая старые, проверенные временем догматические установки. Французская “Монд” писала, что выступления папы по половому вопросу создают впечатление, будто в “глазах церкви половая жизнь является чем-то опасным и подозрительным”.
Оценивая в целом визит Иоанна Павла IIв США, “Франкфуртер Альгемейне Цейтунг” высказывала мнение, что только будущее покажет, принесла ли поездка папы в США какую-нибудь пользу церкви. И с этим мнением трудно не согласиться.
Легенда о разорении Ватикана
Из США Иоанн Павел II вернулся в Ватикан явно утомленным. Не задерживаясь в Риме, он на вертолете перебрался в Кастель Гандольфо, где быстро восстановил свои силы. Этому немало способствовало регулярное купание в открытом бассейне, построенном в летней резиденции по его распоряжению.
И вот снова его имя замелькало во всех газетах, в сообщениях радио и телевидения: папа римский созывает в Ватикане консисторию. Со всего света на нее съедутся кардиналы, притом не только “действующие”, то есть не достигшие 80-летнего возраста, но и старцы, перевалившие за этот рубеж и лишенные Павлом VI права голоса на конклаве.
Такого пленарного собрания (именно так официально было названо это заседание) кардинальской коллегии при жизни папы история церкви не знала. С какой же целью оно созывалось? Какие важные вопросы оно было призвано обсудить и решить? На этот счет строились в печати самые разнообразные домыслы, ибо Ватикан молчал, не считая нужным до поры до времени раскрывать свои карты.
4 ноября 1979г. пленарное собрание кардиналов начало свою работу. В нем приняли участие 108 из 130 “пурпуроносцев”, то есть все, кому здоровье позволило приехать в Ватикан. Но и из прибывших на консисторию далеко не все чувствовали себя в хорошей форме. Патриарх Венеции кардинал Че, например, упал в обморок на торжественной мессе в соборе св. Петра, откуда его вынесли на носилках.
Кардинальское собрание происходило при закрытых дверях. Вдруг распространился слух, что кардиналы обсуждают вопрос “Церковь и культура”. Это вызвало недоумение обозревателей. Стоило ли по такому поводу огород городить и со всего света свозить в Рим престарелых князей церкви? Наконец курия официально сообщила, что главный вопрос на консистории касается финансового положения Ватикана. Дело в том, что папа обстоятельно ознакомился с состоянием казны Ватикана и, обнаружив дефицит в 20 млн. 240 тыс. долларов Paese Sera, 16.11.1979., решил доложить обо всем кардиналам и потребовать от них его восполнения.
Печать всполошилась. Как? И Ватикан обанкротился? И у него дефицит? Не может быть, ведь известно, что Ватикан обладает несметными богатствами. По подсчетам английского журнала “Экономист”, стоимость ценных бумаг и прочих капиталов Ватикана составляла в 70-е годы 5,5 млрд. долларов, а по данным американского журнала “Тайм” – от 10 до 15 млрд. долларов.
Финансовая империя Ватикана создавалась на протяжении десятилетий. Большую роль в приумножении его богатств сыграл банкир Бернардино Ногара, исполнявший обязанности министра финансов при папах Пие XI и Пие XII. При Павле VI “финансовым богом” Ватикана стал американский епископ литовского происхождения Пауль Марцинкус по прозвищу “горилла”, тесно связанный с интересами Рокфеллера. До этого традиционными партнерами Ватикана считались банкирские дома Ротшильда и Моргана.
После второй мировой войны финансовая империя Ватикана значительно расширилась. Возросли поступления не только из США, где доходы церкви приравниваются к прибылям крупнейших монополий, но и из ФРГ, где католическая церковь только в 1978г. получила доходов на сумму 750 млн. долларов L’Unita, 23.02.1979.. Возросли и всевозможные инвестиции Ватикана. По данным печати, Ватикан стал акционером крупнейших международных монополий. Только в одной Канаде, по данным знатока ватиканских финансов Ло Белло, Ватикан инвестировал 2 млрд. долларов. Он же приобрел пакет акций известной голливудской фирмы “Парамаунт пикчерс” и крупнейшей итальянской фабрики противозачаточных средств “Серано”, хотя их применение осуждается папами. Судя по всему, Марцинкус, как и его предшественники на посту главы ватиканского финансового ведомства — Института религиозных дел, ничем не брезгует, считая, что деньги “не пахнут” El Pais, 16.11.1979..
О финансовой империи Ватикана итальянский журналист Тулио Фадзалари писал в журнале “Эспрессо” Espresso, 19.08.1979. : “Управление имуществом святого престола с его двумя отделениями – отделением ординарных операций, ведающим недвижимой собственностью, и отделением чрезвычайных операций, ведающим ценными бумагами и другой движимой собственностью, — это своего рода холдинговая компания, контролирующая около шести десятков компаний и институтов”. Административное управление государства Ватикан в свою очередь контролирует еще десять институтов и организаций. Так, например, в ведении Управления имуществом святого престола находятся четыре римских собора, учреждения Ватикана, газета “Оссерваторе романо” (она обходится в 3,5 млрд. лир в год). В ведении Административного управления — запасы продовольствия, службы, обеспечения порядка, выпуск марок и монет, Ватиканское радио.
Над всеми этими институтами и организациями должна, по идее, надзирать префектура экономических дел, которую с 1967 г. возглавляет кардинал Ваньоцци и которую считают чем-то вроде гибрида нормального министерства финансов и итальянской Счетной палаты. Фактически же префектура не обладает широкими полномочиями. В ноябре каждого года она получает данные от Управления имуществом святого престола и от Административного управления, может высказать свои “замечания”, но у нее нет достаточных возможностей для осуществления настоящего контроля.
В данное время, по самым осторожным предположениям, денежные средства, которыми ведает отделение чрезвычайных операций Управления имуществом святого престола, достигают 120 млн. долларов. Эта оценка, конечно, сугубо приблизительная. Основная сумма капиталов Ватикана хранится в тайне.
Время от времени у Управления имуществом святого престола может быть пассивный баланс. Административное же управление пассива, как правило, не имеет. Более того, оно ухитряется даже сводить свой бюджет с активным сальдо, благодаря выпуску марок (в среднем на сумму 5 млрд. лир в год), продаже билетов на посещение ватиканских музеев, продаже продовольствия, одежды, табака и бензина на территории Ватикана, а также благодаря реализации продукции, производимой в Кастель Гандольфо.
Не имеют пассива и некоторые другие учреждения и предприятия Ватикана, которые не входят в состав Управления имуществом святого престола, например фабрика св. Петра и конгрегация евангелизации народов. Последняя, в частности, — это единственная ватиканская организация, публикующая свой бюджет. Ежегодно она сообщает также, сколько денег было собрано в качестве пожертвований во всех епархиях мира (около 60 млн. долларов в год).
Но конгрегация евангелизации народов в этом плане – исключение. В целом же об имуществе и капиталах Ватикана ничего с точностью не известно. Именно поэтому вряд ли возможно достоверно определить бюджет Ватикана. “Чтобы бюджет внушал доверие, — признают в Ватикане, — необходимо иметь более точные данные, чем те, какие у нас есть сейчас”. Но для того, чтобы иметь более точные данные, папа и его ближайшие сотрудники должны будут раскрыть многие секреты и затронуть многие тайные аспекты ватиканской экономики. Сомнительно,чтобы они на это пошли.
Ватикан — это практически единственное государство в мире, которое имеет дефицит, не имея долгов. Пассив покрывается за счет всякого рода сборов, в частности за счет “гроша св. Петра”. Уже более столетия католики всего мира делают это пожертвование в пользу церкви. Кампания по сбору “гроша св. Петра” проводится 29 июня, в день праздника святого Петра и Павла. Эта практика была узаконена при папе Павле VI, потому что доходов отделения чрезвычайных операций Управления имуществом святого престола и Административного управления было недостаточно, чтобы сбалансировать бюджет Ватикана. Общая сумма “гроша св. Петра” хранится в тайне. По мнению ученого Джованни Черети,при папе Иоанне она достигла 12-15 млн. долларов год, а при папе Павле VI сократилась до неполных 4 млн. долларов. Приблизительно 30 млн. долларов в год, по данным Ло Белло, Ватикан получает в качестве доли от сборов в епархиях. Более или менее регулярно в казну Ватикана поступают также пожертвования и дары от частных лиц.
У Ватикана есть свой банк. В нем могут хранить деньги монашеские ордена, епархии, прелаты и миряне, являющиеся подданными Ватикана, а также иностранцы из числа избранных. Среди последних преобладают итальянцы. Своим клиентам Институт религиозных дел гарантирует тайну банковских вкладов, достойную швейцарских традиций, освобождение от налогов, как на Багамских островах, возможность совершать финансовые операции, с которыми может соперничать лишь Уолл-стрит. Не случайно же президент Института религиозных дел монсиньор Марцинкус – свой человек в Швейцарии, на Багамских островах и на Уолл-стрите.
Марцинкус совершает сенсационные операции. Он ворочает суммой, которая, по мнению самых осторожных специалистов, достигает 2 млрд. долларов, но которая на самом деле наверняка значительно выше. Это позволяет ему скупать облигации норвежского королевства, акции шотландской компании “Юнайтед бискитс”, английской компании “Селекшн траст”.
Марцинкус поддерживает тесные контакты с “Континентл Иллинойс бэнк” (через который совершаются капиталовложения Ватикана в США). Он контролирует Римский банк в Лугано, который, несмотря на название, на 51% принадлежит Институту религиозных дел, а тот в свою очередь полностью контролирует Люксембургский Римский банк. И наконец, Марцинкус входит в состав административного совета “Сиселпайн оверсиз бэнк” в Нассау, на Багамских островах, главного иностранного филиала банковской империи Робертс Кальви (управляющий “Банка Амброзиано”), верного слуги католической церкви. Но главное, Марцинкус обеспечивает прочную связь между ватиканскими финансами и крупными американскими финансовыми группами.
Почему же Ватикан вдруг стал испытывать финансовые затруднения, причем до такой степени, что папа Иоанн Павел II был вынужден поставить об этом в известность кардинальскую коллегию и просить у нее помощи? Как во всех “деликатных” вопросах, так и в этом Ватикан не раскрывает подробностей, но, если судить по данным печати, произошло следующее.
В 60—70-х годах XX в. Ватикан осуществлял различные финансовые операции через миланский “Банка унионе”, который возглавлял сицилийский адвокат Микеле Синдона. Синдона вел дела с крупнейшими банками США. В 1974 г. банк Синдоны лопнул, а он сам скрылся в США. Ватикан на этом банкротстве потерял крупную сумму. Инфляция, энергетический кризис, неудачные спекулятивные сделки еще более осложнили финансовое положение Ватикана.
Павел VI пытался осуществить финансовую реформу курии, но из этой бюрократической затеи ничего путного не получилось. Доходы Ватикана продолжали падать, а расходы — расти.
Смерть Павла VI и вскоре последовавшая за нею кончина Иоанна Павла I повлекли за собой огромные траты. Не говоря о средствах, затраченных на похороны двух этих пап, на проведение двух кряду конклавов и двух интронизации, ватиканскому казначею пришлось в 1978 г., следуя древнему обычаю, дважды выплачивать “премиальные” – около 40 млн. долларов — служащим курии в связи с проведением двух конклавов и избранием двух пап Napoli С., Marcucci К. Giovanni Paolo II, Bologna, 1978, p. 97..
Итак, у Ватикана оказался дефицит в 20 млн. долларов. Находясь в затруднительном финансовом положении, Иоанн Павел II обещал предать гласности ватиканский бюджет, но это обещание не выполнено. Многие наблюдатели сомневаются, что Ватикан когда-либо опубликует не только свои расходы, но и доходы. До сих пор за разглашение цифры доходов Ватикана виновному грозило отлучение от церкви. В среде куриальных чиновников любят рассказывать, что в 258 г. Лоренцо, казначей папы Сикста II, предпочел умереть под пыткой, чем сообщить императору Валериану источники церковных доходов. За это он был впоследствии возведен в святые и по сей день почитается как духовный покровитель ватиканских финансистов Espresso, 19.08.1979..
Нужно думать, что руководство церкви и финансисты Ватикана совместными усилиями найдут выход из временных затруднений. Путей у них для этого есть множество. Печать сообщала, что в Ватикане готовятся сокращение персонала, снижение зарплаты чиновникам и “санпетрини” — обслуживающему персоналу собора св. Петра. Таким образом, угроза безработицы нависла и над Ватиканом. Среди чиновников курии началось в связи с этим брожение. Кое-кто заговорил о необходимости создания профсоюза для защиты прав служащих курии, жалованье которым не повышалось с 1971 г., тогда как лира с того времени значительно обесценилась. Вновь заволновались швейцарские гвардейцы, давно требующие повышения зарплаты. “Меньше благословений, больше денег” — таков на сегодняшний день клич служащих курии.
Ватикану пришлось прислушаться к голосу “низов”. Папа согласился даже на создание такого профсоюза, правда под несколько законспирированным названием – “Организм в защиту прав служащих Ватикана” Paese Sera, 6.11.1979., что несомненно приведет к повышению их жалованья. Вряд ли Иоанн Павел II допустит, чтобы Ватикан оказался парализован забастовкой святых отцов.
Папа хвалит Эйнштейна, реабилитирует Галилея
10 ноября 1979 г. в Ватикане состоялось заседание Папской академии наук, которая, как известно, исследовательской работы не ведет, а является всего лишь своего рода клубом, члены которого раз в год, а то и реже собираются, чтобы отметить какое-нибудь событие, связанное с научной жизнью.
На этот раз Папская академия решила отметить 100-летие со дня рождения Альберта Эйнштейна. С докладом по этому случаю выступил Иоанн Павел II. В самом этом факте нет ничего особенного. Ведь столетний юбилей Эйнштейна отмечался во всем цивилизованном мире. Но здесь имеются некоторые обстоятельства весьма деликатного свойства.
Папа Войтыла в своем выступлении сказал: “Апостолический престол желает выразить Эйнштейну признание, которое он заслужил за его вклад в науку, а именно в познание истины, присутствующей в таинстве мироздания” Le Monde, 13.11.1979.. Таким образом, церковь устами Иоанна Павла II впервые выразила признание заслуг ученого, который не только не являлся католиком и даже христианином, а был агностиком, более того – рационалистом. Эйнштейн заявлял, что не может вообразить бога, вознаграждающего или наказывающего созданное им же самим существо. Он называл “глупой и эгоистичной” веру в потустороннюю жизнь. Автор теории относительности неоднократно высказывался отрицательно о деятельности религиозных руководителей.
Папа Войтыла не остановился на том, что воздал хвалу “безбожнику” Эйнштейну, он также признал, что Галилео Галилей в свое время был незаслуженно осужден церковью. Иоанн Павел II сказал:
“Галилею пришлось пострадать от людей и учреждений церкви, не вполне понимавших законность автономии науки (по отношению к вере. — И. Г.) и считавших, что наука и вера противостоят друг другу. Я предлагаю, чтобы теологи, ученые и историки в духе искреннего сотрудничества подвергли бы углубленному анализу дело Галилея и беспристрастно признали бы ошибки, кто бы их ни совершил, устранив тем самым все еще порождаемый этим делом во многих умах дух противоречия, который препятствует плодотворному согласию между наукой и верой, между церковью и миром” Paese Sera, 17.11.1979..
Более того, вопреки всем известным фактам папа пытался обосновать необходимость реабилитации Галилея тем обстоятельством, что Галилей якобы был набожным католиком, утверждавшим, подобно Пию XII, что наука не противоречит религии Documentation catholique, 2.12.1979, p. 100.. Но ведь хорошо известно, что “набожность” Галилея была всего лишь маскировкой. Достаточно вспомнить его знаменитое произведение “Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой” (1630), в котором великий ученый зло высмеивал точку зрения церкви под видом ее защиты. В этой книге церковные аргументы высказываются устами Симпличио (Простака), под которым Галилей вывел папу Урбана VIII, что и послужило одной из причин ареста ученого. И тем не менее Иоанн Павел II утверждает, что Галилей следовал учению церкви, и представляет его чуть ли не единомышленником Пия XII, считавшего науку всего лишь служанкой религии.
Это выступление папы вызвало сенсацию, ибо впервые глава католической церкви признавал, что Галилей был несправедливо осужден инквизицией. “Объективный” анализ дела Галилея, к которому призвал папа, ничего не изменит. История давным-давно вынесла по этому делу свой окончательный и безапелляционный приговор.
Напомним суть пресловутого дела Галилея. Католическая церковь на протяжении столетий утверждала, что центром вселенной является Земля, что она находится в неподвижном состоянии и что вокруг нее вращаются все остальные небесные тела, в их числе и Солнце. Эта теория была впервые сформулирована греческим астрономом Клавдием Птолемеем, жившим во II в. Она была взята на вооружение христианской церковью, ибо соответствовала точке зрения Библии на этот вопрос. Церковь не только считала птолемееву теорию непреложной истиной, но и обязывала всех верующих исповедовать ее, угрожая непокорным небесными и земными карами.
В 1543 г. польский астроном Н.Коперник сформулировал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой Солнце является центром нашей планетной системы. Земля же, как и другие планеты, вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Эту новую теорию поддержал и стал пропагандировать Галилей. Церковь объявила теорию Коперника опасной ересью и преследовала всех, кто признал ее правильность. Именно за это она привлекла к суду инквизиции и Галилея, требуя, чтобы он отрекся от “коперниканства” и осудил его как нелепое, преступное и греховное учение.
Инквизиция занималась делом Галилея 18 лет. В следствии по делу Галилея участвовали папы Павел V и Урбан VIII, а также наиболее влиятельные кардиналы католической церкви. Все эти 18 лет Галилей мужественно сопротивлялся требованиям инквизиции. В 1633 г. 70-летний ученый был арестован инквизицией, признал себя виновным и отрекся от учения Коперника. Однако и после этого его еще несколько лет держали в застенках инквизиции. Его освободили только тогда, когда он ослеп. Но и после освобождения инквизиция продолжала травить Галилея и бдительно следила за ним вплоть до его смерти.
Отречение Галилея породило огромную литературу. Независимые от церкви ученые утверждали, что инквизиция силой, то есть пытками, вынудила Галилея отречься от учения Коперника. Церковные же авторы категорически заявляли, что Галилей отрекся добровольно, что инквизиторы не применяли к нему насилия. Уже во время Второго Ватиканского собора раздавались голоса, требовавшие реабилитации Галилея. Некоторые кардиналы считали, что осуждение его компрометировало церковь перед верующими, прежде всего перед интеллигенцией, учеными. Вероятно, исходя именно из этих соображений, папа Иоанн Павел II признал несправедливость обвинений в адрес Галилея.
Некоторые органы печати на Западе высказывали мнение, что заявление папы Иоанна Павла II о желательности реабилитации Галилея вызвано тем обстоятельством, что он, будучи поляком, пытался таким образом реабилитировать и своего соотечественника Коперника. Учитывая, что польская церковь никогда не выражала сомнений по поводу законности осуждения учения Коперника и Галилея, вряд ли решение папы Иоанна Павла II связано с его национальностью. Выступление папы в защиту Галилея, сделанное с опозданием в несколько столетий, призвано хоть частично восстановить авторитет католической церкви, сильно пошатнувшийся в век космических полетов и научно-технической революции.
Признав ошибочность осуждения церковью Галилея, папа далее выступил в роли не только покровителя науки, но и ее защитника от всяких “форм международного подчинения и интеллектуального колониализма”. Что он имел здесь в виду, одному ему известно.
Может быть, Иоанн Павел II признал принцип независимости науки от религии? Вовсе нет. Он сказал: “Как все истины, так и научная истина не должна перед кем-либо отчитываться, как только перед самой собой и верховной истиной — богом, создателем человека и всего сущего и живущего” Le Monde, 13.11.1979.. Следовательно, глава католической церкви, реабилитируя Галилея, потребовал предоставить науке свободу, а от “свободной” науки – подчиниться богу, именем которого и был осужден в свое время Галилей, а также десятки других выдающихся ученых.
Высказывания папы об Эйнштейне и взаимоотношениях науки и религии были восприняты на Западе с большой дозой скептицизма. Так, Филиппе Маззонис в “Унита”, отмечает, что “Силлабус” Пия IX означал по существу претензию Ватикана на исключительное право верно толковать все явления современного общества. От этого права Иоанн Павел II вовсе не намерен отказываться. “Одно дело, —пишет Маззонис,— отдать дань уважения Эйнштейну и “реабилитировать” Галилео Галилея, другое дело согласиться с выводами, к которым такие высказывания ведут”. Как связать требование папы уважать науку с его заявлением, что только “церковь обладает, благодаря Евангелию, правдой о человеке”? L’Unita, 22.11.1979.
После выступления папы в Академии многие ученые потребовали от Ватикана открыть, наконец, архивы папской инквизиции для исследователей, чтобы можно было пролить свет не только на позорное дело Галилея, но и на процессы других ее жертв.
Заявление папы о необходимости пересмотреть дело Галилея вызвало скептические реплики и среди чиновников курии. Они отмечали, что пересмотр дела означает по существу новое судебное разбирательство, а так как многие документы инквизиционного суда над Галилеем якобы не сохранились, то по существу невозможно будет решить, был ли ученый осужден справедливо или ошибочно. Другие высказывали мнение, что раз отменена инквизиция, то некому и пересматривать дело Галилея.
Остановимся подробнее на этом последнем аргументе.
Соответствует ли истине, что папский престол отказался от инквизиционных процессов? Конгрегация священной канцелярии (инквизиция) действительно была после Второго Ватиканского собора преобразована в конгрегацию по делам вероучения, и Ватикан неоднократно заявлял, что приветствует плюрализм в теологических исследованиях. Однако, как показывают факты, церковь вовсе не отказалась от осуждений по крайней мере тех католических теологов, которые высказывают взгляды, не соответствующие взглядам курии. Такие осуждения заметно участились с избранием на папский престол Войтылы. Так, только в 1979 г. конгрегация вероучения осудила американских теологов: иезуита Джона Мак-Нэйла, автора книги “Церковь и гомосексуализм”, одобренной генералом иезуитского ордена Педро Аррупе; Чарлза Кэррена, профессора Католического университета в Вашингтоне, критически отозвавшегося о высказываниях Павла VI в энциклике “Хумане вите” против контроля над рождаемостью; иезуита Билла Каллагана, руководителя организации Движение священников за равноправие; теолога Энтони Косника за книгу “Человеческая сексуальность: новые направления в американском католическом мышлении”, изданную с благословения председателя американской конференции епископата архиепископа Куина и американского Католического теологического общества. Осуждены были также швейцарские теологи Август Хаслер, автор книги, отвергающей догмат непогрешимости папы, и Ганс Кюнг, критиковавший консерватизм Ватикана; голландский теолог Пит Шооненберг, французский теолог Жак Поер, автор книги “Когда я говорю – бог”. Кроме того, конгрегация вероучения привлекла к ответственности известного голландского теолога доминиканца Эдварда Шилеебекса, автора книги “Иисус: попытка христологического исследования”.
Эти предупреждения, внушения, осуждения, угрозы вызвали резкие протесты не только в среде светских людей, но и в рядах самого духовенства. В защиту Шилеебекса публично выступили 200 голландских теологов, многочисленные церковные авторитеты в Англии, США и других странах. Жака Поера поддержали более 300 доминиканцев во Франции. Но наибольшее возмущение вызвало осуждение Ганса Кюнга, профессора Тюбингенского университета, получившего сан священника в храме св. Петра в 1954г. и назначенного Иоанном XXIII советником по богословским делам Второго Ватиканского собора. Кюнгу по решению конгрегации по делам вероучения запрещено преподавать теологию, ибо его взгляды расходятся с учением церкви. О каких же взглядах идет речь? Кюнг – автор многих книг, но есть среди них одна (“Непогрешимый?”), изданная в 1970г., которая вызвала особенно резкое недовольство в Ватикане. В ней автор ставит под сомнение догмат о папской непогрешимости. Этот догмат подвергался критике и на Втором Ватиканском соборе, но Иоанн Павел II, судя по всему, вовсе не склонен отказываться от столь полезного для него инструмента власти. Ведь именно с помощью этого догмата он надеется укрепить расшатавшуюся церковную дисциплину.
Сам Кюнг так отозвался о решении конгрегации кардинала Сепера: “Это позор, что в XX веке могут происходить инквизиционные процессы в церкви, основанной на учении Христа и выступающей за права человека. Мне стыдно за мою церковь. Крайне прискорбно, что немецкие епископы и кардиналы участвовали в этом инквизиторском деле. Я стыжусь, что моя церковь повторяет по отношению ко мне ошибку, совершенную по отношению к Галилею, вскоре после того, как папа потребовал его реабилитации” Цит. по: L’Unita, 13.12.1979..
В поддержку Кюнга выступили многие теологи Запада, был создан Комитет священников в защиту прав христиан внутри церкви Mundo Obrero, 3-9.1.1980..
Ватикан, однако, упорно не желает отказываться от своего права подвергать осуждению не угодивших ему служителей церкви. Защищая эту позицию Ватикана, кардинал Франсиск Сепер, глава конгрегации по делам вероучения, в интервью гамбургскому журналу “Гео” сказал: “Наши теологи всегда хотят чего-то нового. Они подвергают сомнению истинность нашего учения и вносят путаницу в головы верующих и даже служителей церкви. Исповедальня не место для философствования”.
“Не лучше ли взрослым людям самим решать такие проблемы?” – спросил кардинала журналист. “Этого они не должны и не в состояния делать, — назидательно ответствовал Сепер, — ибо нуждаются в наставлении свыше” См.: За рубежом, 1979, № 50, с. 18..
В свете этих фактов лондонская “Таймс” выражала обоснованные сомнения в том, отказался ли в действительности Ватикан от методов инквизиции в борьбе с инакомыслящими. В передовице, озаглавленной “Ортодоксальные взгляды и расследования”, она писала: “Священная конгрегация по делам вероучения, в прошлом св. канцелярия, а еще раньше римская инквизиция, изменила свое название, но изменила ли она методы своей работы? Ненамного, если судить по волнениям теологов, на которых распространяется ее власть, и высказываниям тех, которые вне ее власти. Безусловно, она по-прежнему действует тайно”. И дальше “Таймс” продолжала: “Ее устав не опубликован, она расследует взгляды и моральное поведение духовенства на основе доносов, которые никогда не оглашаются. Она приходит к предварительному заключению, не заслушав обвиняемого. Если это заключение отрицательное, она вызывает на дознание обвиняемого. Причем никто не знает, будут ли при этом уважаться его права или нет. Решение конгрегации и мера наказания становятся известными только после завершения процесса” The Times, 14.12.1979..
Другая английская газета, “Гардиан”, отмечала: “Судя по всему, в католической церкви наступила эра строгого автократизма” Gurdian, 27.12.1979..
“Церковь больше не помещает в индекс запрещенных книг неугодные ей сочинения, но она продолжает затыкать рот неугодным ей авторам”, — писал в “Монд” известный специалист по Ватикану Анри Фескет Le Monde, 1.01.1980..
В свете этих новых, вынесенных Ватиканом осуждений довольно странно звучат высказывания папы в защиту Галилея, который был признан инквизицией виновным также и в том, что не признавал права церкви на цензуру. Следует ли удивляться, что в рядах католического духовенства все более громко звучат голоса, требующие от Ватикана уважать права человека, и прежде всего права служителей церкви.
Ватиканская карусель
Как только не называют папу западные газеты: “атлет веры”, “суперстар на св. престоле”, “летающий поляк”, “папа-спортсмен”, “папа-поэт”. “Папа Войтыла, ты — божий викинг, небесный дар, совершенное создание церкви и друг человека!” было написано на одном из транспарантов, который держали верующие, собравшиеся на площади св. Петра в дни пасхальных празднеств 1979 г. Paese Sera, 26.04.1979. И в каждом из этих определений отражается какая-нибудь черточка сложной личности понтифика из Кракова.
Энергия бьет из него ключом. Выступив на заседании Папской академии наук, Иоанн Павел II сложил чемоданы и полетел в Турцию. Почему именно в Турцию?
Там он встретился с Димитриусом I, православным патриархом Константинополя, и обсудил с ним наболевший вопрос об экуменизме – единении христианских церквей. Об экуменизме говорилось на Втором Ватиканском соборе, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, ибо Ватикан представлял себе такое единение, как подчинение всех христианских течений католической церкви. Иоанн Павел II, впрочем, как и все папы до него, мечтает покончить с расколом в христианстве. Но на каких условиях? Каким образом?
Программа пребывания папы в Турции предусматривала встречи с верующими, молебны на папертях храмов, процессии. Но в последний момент, учитывая напряженность политического положения в Турции, все публичные выступления папы были отменены. Папа передвигался по стране вертолетом, ему была обеспечена усиленная охрана.
Визит в Турцию был, конечно, и жестом в сторону ислама, с которым уже давно заигрывает Ватикан.
Но, судя по всему, комплименты в адрес ислама, которые расточал папа во время пребывания в Турции, пока не принесли Ватикану мало-мальски значительных дивидендов.
Немало поездил папа за первый год своего понтификата и по Италии. Он посетил Неаполь, Помпеи, Монтекассино, родину папы Лучани — Канале д’Атордо, Беллуно, Тревисо, побывал на Доломитских горах. В своих путешествиях он пользовался автомобилем, вертолетом, самолетами военной авиации.
Несмотря на свои многочисленные вояжи, Иоанн Павел II успел за год пребывания на престоле св. Петра издать и свою первую энциклику — “Redemptor Hominis” (“Спаситель человечества”). Однако этот документ привлек к себе меньшее внимание печати, чем любая из папских поездок. И это неудивительно, если учесть, что в нем не содержится ничего нового по сравнению с прошлыми документами такого рода. Нельзя же считать новшеством традиционные филиппики против атеизма, которые звучат явным анахронизмом в первой энциклике папы Войтылы. Утверждение энциклики, что “наш век является веком великих бедствий”, вызвало недоумение комментаторов. Они указывали, что хотя в XX в. были и Гитлер, и Муссолини, и мировые войны, но были и продолжают осуществляться серьезные социальные преобразования в интересах трудящихся и всего человечества. Многие страны обрели независимость.
За первый год своего понтификата Иоанн Павел II возвел в кардинальское звание 14 епископов: 6 итальянцев, двух поляков и по одному прелату из Мексики, Франции, Ирландии, Вьетнама, Японии и Канады. Имя одного из новоиспеченных кардиналов пока не раскрыто, он назначен “in petto” — тайно.
Были произведены и важные назначения на ватиканские должности: статс-секретарем был назначен Агостино Казароли, его заместителем — испанец Эдуардо Мартинес Сомало, итальянец Акилле Сильвестрини стал министром иностранных дел, его заместителем – литовец Аудрис Бацкис, сын дипломата буржуазной Литвы, кардинал Паоло Бертони стал камерленго — душеприказчиком папы. Новый кардинал Каприо стал главой управления собственности апостолического престола, или министром финансов Ватикана. Эти назначения снизили средний возраст ближайших сотрудников папы с 67 до 54 лет, Иоанн Павел II принял также меры, направленные на укрепление дисциплины среди духовенства и монахов. В последние десятилетия, в особенности после Второго Ватиканского собора, служители церкви все чаще выступают с требованиями отменить безбрачие, уравнять монахов в правах со священниками, “обновить” средневековые уставы монастырской жизни. Это брожение в среде духовенства не по вкусу новому папе. В апреле 1979 г. Иоанн Павел II направил циркулярное письмо ко всем священникам, требуя от них сосредоточиться на своих прямых пастырских обязанностях. Затем папа выступил перед францисканцами и призвал их соблюдать монастырский устав, вести, как и подобает монахам этого ордена, подвижнический образ жизни. Но самое большое неудовольствие вызвала у папы деятельность иезуитского ордена, в рядах которого имелись контестаторские течения, появились слишком радикальные реформаторы, пытавшиеся во что бы то ни стало предать ордену Лойолы не свойственный ему характер борца за социальные преобразования в современном капиталистическом обществе.
Выступая 21 сентября 1979 г. перед руководством иезуитского ордена, папа упрекал его членов в отходе от догматических установок церкви, в излишней приверженности к секуляризму, в пренебрежении к коммунитарному образу жизни, в оторванности от церковного начальства. Папа призвал иезуитов отказаться от функций, не связанных с прямыми обязанностями церковных наставников. Генерал иезуитского ордена Педро Аррупе в директивном письме членам ордена от 19 ноября 1979 г. признал критику со стороны папы правильной и потребовал от своих подчиненных исправления указанных недостатков. Теперь, говорят в Ватикане, настали времена, когда не иезуиты спасают церковь, а она спасает членов ордена Лойолы.
Обеспокоен Иоанн Павел II и настроениями, господствующими среди монахинь. В мире насчитывается около одного миллиона католических монахинь, что составляет более половины всей церковной армии. Монахини, раньше отличавшиеся своей покорностью, теперь бунтуют, требуют всякого рода реформ, уравнения в правах с мужской частью клира. В этом Иоанн Павел II убедился во время поездки в Соединенные Штаты. Папа поставил церковь в известность о том, что готовит обязательные для всех монахинь нормы поведения, цель которых — заставить их неукоснительно соблюдать монашеский образ жизни.
В январе 1980 г. в Ватикане объявили, что церковь официально признала деятельность ордена “Опус деи” (“Божеское дело”). Эта организация была основана в 1928 г. ультраправым испанским священником X.М. Эскрива де Балагером. Ее расцвет приходится на послевоенные годы. “Опус деи” своей разносторонней и всегда тайной деятельностью напоминает одновременно иезуитский орден, масонскую ложу и ЦРУ. Членами ордена наряду со священниками могут быть миряне, притом не только католики, но и исповедующие любую другую веру. Миряне – члены “Опус деи”, это, как правило, люди богатые и влиятельные. Главная цель ордена — предотвратить победу коммунизма. Книга Эскрива де Балагера “Путь”, библия опусдеистов, содержит 999 максим, проповедующих “святое бесстыдство” как главное качество святости. Опусдеисты входили в правительства генерала Франко и Салазара, они пользуются большим влиянием в окружении Пиночета и других латиноамериканских ультраправых диктаторов, проникли в университетские круги и правящие группировки в США. В настоящее время орден действует в 87 странах и насчитывает 72 тыс. членов, из них только 2% — священники, остальные – миряне. Опусдеисты проводят работу в 497 западных университетах и высших учебных заведениях, они контролируют 52 радио- и телекомпании, 12 кинокомпаний, 38 печатных агентств Mundo Obrero, 15-21.11.1979..
Что же заставило Ватикан именно в январе 1980 г., при резком обострении международной обстановки, заявить о своем одобрении ордена “Опус деи”? Не желание ли еще раз таким образом подчеркнуть свою солидарность с антикоммунистической направленностью его деятельности?
Но как ни волнуют папу внутренние дела церкви, основное его внимание сосредоточено на вопросах мировой политики. Среди них не последнее место занимает проблема Китая, и вот в какой связи. Курс пекинских руководителей на максимальное сближение с реакционными кругами Запада сопровождается, в частности, “возрождением” в Китае различных религиозных культов, включая и католический. После 13-летнего перерыва китайские власти вновь открыли несколько католических храмов, разрешили деятельность Патриотической католической ассоциации, которая избрала в июле 1979 г. нового епископа Пекина. В китайской печати стала появляться информация о деятельности папы и даже его портреты. Пекин разрешил поездку в Китай католическим священникам, имеющим там родственников. Этим разрешением воспользовался иезуит Мишель Чу, ответственный за китайские передачи Ватиканского радио, он провел в Китае около двух месяцев. Посетил Китай и другой доверенный человек Ватикана – священник Франко Демарки, редактор церковного журнала “Китайский мир”. Он присутствовал даже при посвящении в сан нового епископа. Наконец, китайские власти заявили, что будут приветствовать возвращение в страну представителей и самого иезуитского ордена, изгнанного из Китая после образования КНР. Эти действия китайских властей нашли положительный отклик в Ватикане: в августе Иоанн Павел II публично заявил, что Ватикан готов “к сближению и, следовательно, к встрече” с Пекином Il Messagerro, 20.08.1979..
Вслед за малоизвестными монсиньорами в Пекин зачастили и такие влиятельные сановники церкви, как кардинал Роже Этчегаррэ, архиепископ Марселя и президент Конференции епископов Франции, и кардинал Франц Кёниг, архиепископ Вены и руководитель ватиканского секретариата по делам неверующих. Высокие инстанции в Пекине принимали обоих, что называется, с “китайскими церемониями”. Кардинал Этчегаррэ выступал с докладами перед студентами в Пекине, Шанхае, Кантоне, встречался не только со своими единоверцами, но и с буддистами, мусульманами и представителями других культов. Такие же возможности были предоставлены и кардиналу Кёнигу.
Почему Пекин укрепляет связи с Ватиканом? Какие выгоды надеется извлечь из этого китайское руководство? Заставить папу Иоанна Павла II примкнуть к “оси Пекин — Вашингтон”? Подтолкнуть его на активные антисоветские действия? Приобрести в его лице влиятельного союзника?
А какую пользу надеется извлечь для себя из этой игры Ватикан? Получить доступ к миллиардному населению Китая и попытаться превратить последний в миссионерскую территорию католической церкви?
На эти и многие другие вопросы, возникающие при дешифровке тех или иных шагов Ватикана, ответит будущее. Что ж, поживем — увидим…
Став папой, Войтыла неоднократно выступал на тему о правах человека, в защиту человеческого достоинства. Но его выступления, как правило, носили характер общих рассуждений. Рядовые католики и духовенство Латинской Америки неоднократно обращались к папе с просьбами выступить в защиту жертв террора в их странах. Особенно настойчивы были обращения из Чили. В Рим приехали родственники так называемых “пропавших без вести” противников кровавого режима Пиночета. Они пытались встретиться с Иоанном Павлом II, чтобы передать ему соответствующую информацию, но их не допускали в Ватикан. Тогда чилийцы заняли одну из церквей Рима и объявили голодовку. И это не помогло. Только после того, как чилийцам удалось добиться, чтобы в пятнадцати церквах Рима был зачитан с амвона их рассказ о злодеяниях пиночетовой хунты, папа наконец решился сказать свое слово. Но как это было сказано? Римский понтифик счел возможным наряду с осуждением преступлений, творимых в Чили и в некоторых других странах Латинской Америки, повторить явно клеветнические россказни, распространяемые западной пропагандой о Чехословакии и Кампучии. Чем объяснить такую позицию папы? Вот вопрос, на который пытаются найти ответ как верующие, так и неверующие.
Много и часто Иоанн Павел II говорит о мире, разрядке, разоружении. И это, конечно, хорошо. Вскоре после своего избрания папа встретился с министром иностранных дел СССР А.А. Громыко, с которым обсуждал именно эти проблемы. Папа был явно обеспокоен решением НАТО о размещении новых ракет в Западной Европе, что вновь обострило международную обстановку. И все же нельзя не отметить, что и в миротворческих высказываниях папы проскальзывает иногда стремление поставить на одну доску виновных и их жертвы, объяснить причину войн несовершенством человека вообще. Тщетно искать в выступлениях папы упреки в адрес тех военно-промышленных кругов, которые наживаются на вооружении и войнах и зачастую диктуют свою политику правительствам некоторых капиталистических государств. Папа осуждает в равной степени войны и революции, считает, что главной предпосылкой всеобщего мира является “внутренний мир” человека, он сокрушается по поводу “горестных последствий” революции и по поводу гражданских войн La Documentation catholique, 6.05.1979, N 1763, p. 412; Giovanni Paolo II. Discorsi, v. I. Roma, 1979, p. 144, 206, 238.. Он явно стремится к тому, чтобы “и волки были сыты, и овцы целы”, но, как известно, достигнуть этого еще никому не удавалось.
Выступая на Втором Ватиканском соборе, епископ Войтыла утверждал: “Церковь должна так говорить, чтобы мир видел: она не только поучает, но и стремится к справедливому решению человеческих проблем, помогает миру самому найти их решение, исключает клерикальные построения… жалобы на безнадежное состояние мира, морализаторство и призывы, не подкрепленные делами, не должны иметь места в деятельности церкви”. Он также призывал к диалогу с атеистами Greenley Andrew M. Ор. cit., p. 208..
Эти здравые высказывания, обращенные к соборным отцам, все еще остаются благими пожеланиями, хотя теперь, став папой, Войтыла имеет все возможности реализовать их. За год правления нового папы газетная шумиха вокруг его имени не улеглась. Сообщали, что он похудел на 10 килограммов, что выходят пластинки с напетыми папой религиозными гимнами, что идет в театрах написанная им 20 лет назад пьеса “Лавка ювелира”, что побит рекорд продажи открыток с его изображением, что впервые в истории церкви папа собственноручно сочетал в Ватикане браком простых смертных: дочь дворника с рабочим и т. д. и т. п.
Иоанн Павел II продолжает свою деятельность, направление и содержание которой не всегда поддаются однозначному толкованию.
Убийство в Сан-Сальвадоре
Вскоре после свержения диктатора Сомосы и победы революции в Никарагуа (на что папа не счел нужным откликнуться) в Сальвадоре, самой маленькой (21,4 тыс. квадратных километров) и самой густонаселенной (около 4,5 млн. населения) стране Центральной Америки, пал местный диктатор генерал Карлос Умберто Ромеро и к власти пришла военно-гражданская хунта, в которую вошли представители демохристианской партии и армии. Эта хунта обещала осуществить демократические реформы, но в действительности она продолжала политику репрессий против демократов. Белый террор в Сальвадоре достиг невиданных даже в странах Латинской Америки размеров. С начала 1980 г. в Сальвадоре было убито более 8 тыс. патриотов, среди них много священников и католических деятелей. Погибли священник Рутилио Гранде, ближайший сотрудник архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро, настоятель прихода Сан-Висенте священник Алирио Масиас, участник движения Народных сил им. Фарабундо Марта Аполинарио Серрано, основатель Христианской федерации сальвадорских крестьян Хесус Чакон и многие другие Gianma International, 16.03.1980.. Угрожали неоднократно расправой и архиепископу Оскару Арнульфо Ромеро, решительно осуждавшему кровавые репрессии правых, которые осуществляются при участии правящей хунты, вооружаемой правительством США.
Архиепископ Ромеро обратился с письмом непосредственно к президенту Картеру, призывая его прекратить поддержку правящей в Сальвадоре хунты. Архиепископ писал президенту США: “В последние дни в нашей прессе появилось глубоко встревожившее меня сообщение о том, что Ваше правительство изучает возможности оказания экономической и военной помощи правящей хунте.
Помня, что Вы христианин и что Вы высказали намерение защищать права человека, я решаюсь изложить Вам свою пастырскую точку зрения на это сообщение и обратиться к Вам с конкретным прошением…
Если это сообщение печати соответствует истине, то Ваше правительство, вместо того чтобы способствовать упрочению справедливости и мира в Сальвадоре, безусловно усугубит несправедливость и придаст новый импульс силам подавления народа, уже много раз поднимавшегося на борьбу за важнейшие из своих человеческих прав…
Поэтому я, как сальвадорец и архиепископ, возглавляющий все епархии Сальвадора, самим саном своим обязанный стремиться к воцарению мира и справедливости в моей стране, прошу Вас, если Вы воистину желаете защищать права человека: запретите оказывать военную помощь правительству; гарантируйте от вмешательства, прямого и косвенного, военного, экономического, дипломатического и всякого иного, в дела Сальвадора.
Мы переживаем в настоящее время тяжелейший политико-экономический кризис, но не подлежит сомнению, что сознательность и организованность нашего народа все растут, что в нем крепнут силы, способные созидать будущее Сальвадора и отвечать за это будущее, и что только сам народ может преодолеть нынешний кризис.
Неправедным и прискорбным делом было бы вмешательство чужеземной силы, препятствующей народу Сальвадора принять самостоятельное решение о путях экономического и политического развития собственной страны. Это было бы нарушением открыто провозглашенного всеми епископами латиноамериканских стран “законного права наших народов организовываться в соответствии с собственным духом и с ходом своей истории и сотрудничать в новом международном порядке”.
Я надеюсь, что Ваши религиозные чувства и Ваше понимание необходимости защиты прав человека побудят Вас откликнуться на мою мольбу и тем самым помешать еще большему кровопролитию в нашей многострадальной стране”.
На письмо архиепископа Ромеро ответил тогдашний государственный секретарь США С. Вэнс, утверждавший, что военная и прочая американская помощь хунте осуществляется исходя из интересов “защиты прав человека” и “принципов демократии”. В интервью венесуэльской газете “Диарио де Каракас”, опубликованном 20 марта 1980 г., архиепископ Ромеро в очередной раз резко осудил вмешательство США во внутренние дела его страны. Ромеро положительно отозвался о программе, разработанной координационным органом революционных массовых организаций.
23 марта архиепископ Ромеро в очередной проповеди призвал сальвадорских солдат не стрелять в народ. “Солдат, — говорил архиепископ, — ты не должен повиноваться приказу, нарушающему божественные установления. Аморальные законы никто не обязан выполнять. Одумайся! Еще не поздно вновь обрести свою совесть. Именем господа нашего, именем этого многострадального народа, чьи стенания с каждым днем все громче возносятся к небу, я умоляю, прошу, приказываю: прекратите репрессии!” Cambio 16, 1980, N 435, р. 56.
Эта проповедь архиепископа настолько вывела из себя ультраправых, что они издали листовку с призывом убивать служителей церкви, выступающих с осуждением существующего порядка. Листовка называлась: “Будь патриотом, убей священника!” Вот в какой обстановке 25 марта 1980 г. в Сан-Сальвадоре среди бела дня во время церковной службы в присутствии многочисленных прихожан был убит снайперами архиепископ Ромеро. Естественно, что убийцы этого достойного пастыря и подлинного патриота так и “не были обнаружены”, хотя их имена хорошо известны властям и общественности. Все подробности убийства Ромеро были опубликованы в демократической печати.
Пропаганда же США, стремясь навести тень на плетень, после убийства Ромеро пыталась представить его как противника не только правых, но и левых сил Сальвадора, намекая, таким образом, что его убийство могло быть делом рук как тех, так и других. Знакомый почерк ЦРУ, пытающегося замести собственные следы.
Это преступление вызвало гнев и осуждение всего цивилизованного мира, тем более что оно не было ни случайным, ни изолированным фактом в странах Латинской Америки. В начале 1980 г. была совершена попытка убийства бразильского кардинала Висенте Шерера, его тяжело ранили ударами ножа и, раздев догола, выбросили из машины в безлюдном месте. В середине марта 1980 г. в Боливии был злодейски убит католик Хорхе Селум, редактор журнала “Аки”, выступавший с критикой реакционных проамериканских группировок. Перечень подобных печальных фактов можно было бы продолжить. Однако, как это ни странно, Ватикан, по крайней мере публично, на них не реагирует. Правда, убийство архиепископа Ромеро Иоанн Павел II осудил, но при этом ни словом не обмолвился о массовых преступлениях реакции в Сальвадоре. Между тем папа был прекрасно осведомлен об истинном положении в стране. Ведь в конце февраля 1980 г. архиепископ Ромеро лично вручил Иоанну Павлу II меморандум, в котором перечислялись имена 896 лиц, погибших от рук правых в Сальвадоре в 1978-1979 гг., а также 1531 арестованного и 205 “пропавших без вести”. Среди жертв террора было 11 священников.
Только 30 марта Иоанн Павел II публично осудил волну террора в Сальвадоре, но при этом счел возможным распространяться больше о мнимых страданиях верующих в “коммунистических странах”, чем о реальных преступлениях, в частности об убийствах священников там, где правят доллар и “гориллы”, получающие оружие от Пентагона. Такую позицию папы по отношению к событиям в Латинской Америке трудно назвать беспристрастной.
Комментируя положение в этой части света, аргентинский публицист Хуан Росалес отмечает, что прогрессивным силам необходимо учитывать появление новых элементов в католическом лагере, “исповедующих чувства солидарности и гуманизма, страстно желающих участвовать в происходящих событиях, но не имеющих о них четкого представления и руководствующихся утопическими идеями. Реакция пытается использовать эти находящиеся под влиянием церкви силы, чтобы внести разлад в массовое демократическое движение. Долг коммунистов — помочь верующим преодолеть их непоследовательность и предрассудки, повысить их политическое сознание и выработать собственную унитарную линию действий, благодаря чему они смогут активно включиться в своих странах в антиимпериалистическую и революционную борьбу” Проблемы мира и социализма, 1979, №12, с. 71-72.. Участие верующих и служителей церкви в антиимпериалистической борьбе народов Латинской Америки стало фактом, с которым не может не считаться и Ватикан, стремящийся сохранять влияние католической церкви в этом регионе.
Поездка по Африке
В начале мая 1980 г. Иоанн Павел II вновь покинул свои ватиканские покои и отправился в 11-дневную поездку по странам Африки. Папа планировал посетить 6 африканских стран, побывать в двух лепрозориях, посвятить в епископы 12 африканцев и многое другое.
Новый вояж папы вызвал немалый интерес в журналистских кругах. В печати отмечалось, что, несмотря на рост количества католиков в Африке (на 400 млн. населения этого континента в 1980 г. приходилось, по церковным данным, 52 млн. католиков) L’Unita, 9.05.1980., дела церкви обстоят здесь далеко не блестяще. Католическая церковь пришла на африканский континент вместе с колонизаторами, которых она поддерживала и с которыми тесно сотрудничала на протяжении столетий. Так же как колонизаторы, церковь считала африканцев невежественными дикарями, нуждавшимися в “опеке”. Этой “опекой” занимались миссионеры-европейцы под руководством ватиканской конгрегации пропаганды веры (ныне конгрегация евангелизации народов). Крушение колониальной системы империализма в 50—60-х годах нашего века Ватикан, как, впрочем, и протестантские церкви, встретил с нескрываемой тревогой. И не без основания.
Из многих завоевавших независимость африканских стран миссионеров заставили убраться вон вместе с колонизаторами. Чтобы окончательно не потерять Африку, Ватикан был вынужден в пожарном порядке создавать церковную иерархию из африканцев. Так появились епископы и даже кардиналы — негры. Однако среди священнослужителей в Африке все еще преобладают европейцы. В Заире, например, из 2506 священников в 1980 г. было только 790 африканцев L’Unita, 4.05.1980.. Но вряд ли африканизация духовенства поможет церкви сохранить позиции на этом континенте. Ведь дело не только в смене “белой” вывески на “черную”; необходимо кардинальное изменение позиции церкви по отношению к африканским народам и их проблемам.
Именно об этом говорили епископы-африканцы на Втором Ватиканском соборе. Под давлением быстро растущих антиимпериалистических настроений в Африке и других развивающихся регионах мира Павел VI (в 1969 г. он с кратким визитом побывал в Кении) опубликовал свою энциклику “Популорум прогрессио”, в которой признавал право народов не только на самостоятельное существование, но и на владение собственными богатствами и на их использование в своих интересах. В то время эта энциклика наделала много шума. Теперь же можно сказать, что какого-либо заметного следа она после себя не оставила. Политические события в Африке развивались и развиваются отнюдь не по сценарию, разработанному римскими папами, а согласно историческим закономерностям. Наивно, конечно, было бы думать, что поездка по странам Африки нового папы что-либо здесь изменит.
Иоанн Павел II посетил Заир, Конго (Браззавиль), Кению, Гану, Верхнюю Вольту, Берег Слоновой Кости. В этих шести африканских странах проживает около 64 млн. человек. Папу повсеместно встречали толпы верующих, местные власти, духовенство, дипломаты. Папа отправлял богослужения, рукополагал епископов, посвящал в сан священников, выступал с речами и проповедями, давал интервью, позировал фотографам, встречался с протестантами, анимистами, мусульманами.
В своих многочисленных выступлениях на африканской земле (их было за 11 дней — 60!) папа затрагивал самые разнообразные темы. Разумеется, он не скупился на комплименты в адрес африканских народов. Иоанн Павел II заверял их в своем уважении к их традициям и культуре. “Церковь — это семья, не исключающая никого”, — убеждал он своих африканских слушателей. Папа отметил, что Африка играет сегодня важную роль в международных делах, что она сама творит свою собственную историю. Он осудил любые проявления расизма и приветствовал провозглашение независимости Зимбабве. В Кении папа надел плащ местного жреца и бил в ритуальный барабан, как заправский колдун, чем вызвал взрыв восторга у собравшейся толпы. Чего не сделаешь ради собственной популярности и во славу божию!
Конечно, папа затрагивал в своих выступлениях и острые политические вопросы. Национальный суверенитет и политическая независимость, говорил он в Кении, должны сопровождаться экономической независимостью и свободой от идеологического порабощения со стороны великих держав. Он осудил неограниченную власть, коррупцию, господство над слабыми, тиранию, насилие и терроризм, отказ народу в праве на участие в общественной жизни и на принятие политических решений. Он призывал помогать эмигрантам, покидающим по разным причинам свою родину. Папа бичевал “бога денег” и “всяческий материализм”, который он сравнивал с рабством, и произносил филиппики против “практического атеизма”. Иоанн Павел II призывал также африканцев изучать опыт деятельности церкви в Польше, который якобы им может пригодиться. Трудно сказать, что он здесь имел в виду. Папа не мог, находясь в Африке, обойти в своих выступлениях и проповедях вопрос о семье. Он сравнил современную семью с пирогой, которая следует своим курсом в бушующем море. Священникам папа рекомендовал сохранять воздержание “как днем, так и ночью”, то же он пожелал и монахиням.
Перед возвращением в Рим папа обратился с посланием к африканским народам, в котором заверял их, что многому научился, посетив Африку. Он призывал африканцев сохранить и приумножить их оригинальную культуру и бороться со всякого рода соблазнами. В частности, он увещевал их “не покупать, переплачивая в несколько раз, оружие, тогда как население нуждается в хлебе”, “не захватывать власть, натравливая одно племя на другое и провоцируя братоубийственные и кровавые войны, в то время как бедняки жаждут мира”. Папа предупредил африканцев против “соблазна стать жертвой опьянения наживой” Il Messagerro, 9.05.1980..
Эти стрелы, однако, как отмечала печать, были выпущены не по тому адресу, ибо главным виновником страданий африканских народов являются не столько они сами, сколько неоколонизаторы, толкающие Африку на капиталистический путь развития. Но как раз об этих последних в многочисленных выступлениях папы во время его пребывания в Африке не было сказано ни слова…
В целом африканское путешествие Иоанна Павла II, по выражению итальянской газеты “Мессаджеро”, больше походило на предвыборное турне американского претендента на президентское кресло, чем на паломничество духовного пастыря Ibidem..
Следует ли удивляться, что в ряде африканских стран вояж папы вызвал недовольство среди духовенства и верующих. В некоторых местах доходило до демонстраций протеста, указывает корреспондент итальянской коммунистической газеты “Унита” Альчесте Сантини, который был среди журналистов, сопровождавших папу в этой его поездке L’Unita, 4.05.1980..
Что же дало африканским народам и католической церкви посещение папой Африки? Ровным счетом ничего. Папа еще раз произнес десятки тысяч слов, но тщетно искать в его проповедях и выступлениях какую-либо новую идею, мысль, какое-либо новое предложение или инициативу, которые бы принесли реальную пользу народам этого континента или существенно изменили положение католической церкви в африканских странах.
В гостях у “возлюбленной дщери”
Визит папы Войтылы во Францию – он пробыл там пять дней, с 31 мая по 4 июня 1980 г., — вызвал, как и все его предыдущие зарубежные турне, много самых разнообразных откликов. Французская церковь занимает особое место в католическом мире, и хотя она официально именуется “возлюбленной дщерью” Рима, между Ватиканом и ею было немало распрей и конфликтов. В курии по сей день считают, что именно с нее начались все беды католической церкви. Сперва она была повинна в галликанской ереси, потом в рационализме. Наконец, в наше время именно в ее рядах зародилась крамола священников-рабочих, прогрессивных священников. Ее богословы Жак Маритен, Мари-Доменик Шену, Ив Конгар, Де Люба были занесены в черные списки Ватикана. И только Иоанн XXIII приблизил их к папскому престолу, оказывал им доверие. Но не только “левые” французские церковники доставляют беспокойство Ватикану, интегристы во главе с епископом Лефевром, ярым противником Второго Ватиканского собора, также считают Францию своей цитаделью.
Конечно, эти крайности в образе мыслей, точках зрения на линию Ватикана, настроениях французского духовенства объясняются отнюдь не специфическими особенностями “галльского” характера. Причины этого гораздо глубже и сложнее. Дело в том, что ни в какой другой стране капиталистического мира католическая церковь не испытывает таких трудностей, как во Франции. 80% населения страны проходят обряд крещения. Казалось бы, чего тут церковникам беспокоиться? В действительности же оснований для их беспокойства более чем достаточно. Оказывается, из крещеных только 12—17% выполняют церковные обряды. Если взять верующих-католиков от 15 до 30 лет, то только 7% из них посещают воскресную службу (мессу), треть вообще в бога не верует, а 48% никогда не бывали в церкви. Во Франции насчитывается 40 тыс. священников, но за 25 лет (1950—1975) церковь покинуло 2500 священнослужителей, а в 1977 г. приняло сан только 99 человек, в то время как 30 лет тому назад — более тысячи. В Париже, где действуют 1348 священников, половине из них — за 60 лет, трети — от 50 до 60, и только троим – меньше 30 лет Il Messagerro, 30.05.1980.. Многие во Франции считают, что церковь здесь переживает острый кризис. Следует ли удивляться, что французская иерархия принимала и принимает самые различные меры для улучшения своих позиций в обществе. Об этом говорил ее глава кардинал Эчагаррэ, приветствуя папу в Париже: “Как епископы, тесно связанные с нашими священниками и нашими активистами, которые по сравнению с нами находятся на более передовых позициях церкви, мы предпринимали самые рискованные шаги в нашей миссионерской работе” Il Messageiro, 2.06.1980..
Действительно, церковная иерархия провозгласила Францию “миссионерской территорией”, один “крестовый поход” сменялся другим: церковное руководство выступало и за плюрализм в рядах церкви, и в поддержку социального законодательства, и против войны. Активно приобщалась церковь и к рабочему движению через свои весьма радикальные организации христианской молодежи (ЖОК) и им подобные, а также через христианские профсоюзы. В последние годы в более чем 1100 приходах, лишенных настоятелей, действуют так называемые Воскресные ассамблеи содействия священникам (АДАР), которые организуют гражданские богослужения.
Однако все усилия французской церкви, направленные на то, чтобы восстановить свое влияние в массах, не приносят желаемых результатов. Вместе с тем в глазах главы церкви и римской курии они укрепляют мнение о ней как о либеральствующей, ненадежной, подозрительной. Как бы оправдываясь перед Иоанном Павлом II за безрадостное положение дел в его “стаде”, кардинал Эчагаррэ закончил свое обращение африканской пословицей, которую не раз употреблял сам Войтыла, будучи в Африке: “Дерево, стоящее на обочине пути, получает удары от всех путников”.
Вот почему газеты окрестили посещение папой Войтылой Франции американским словечком “чекап”, что значит “проверка”, “инспекция”, “экзамен”. Они считали, что Иоанн Павел II предпринял эту поездку в первую очередь в целях личного ознакомления с положением церкви во Франции. Но вряд ли таковой была цель Войтылы. Ведь он и до визита был хорошо осведомлен о положении церкви во Франции. Еще в бытность свою священником Войтыла дважды бывал в этой стране, гостил он в ней и будучи уже кардиналом, в 1977.Г., за год до своего избрания понтификом. Скорее всего, этот вояж, как в значительной степени и все предыдущие поездки Иоанна Павла II, которого печать окрестила “папа-суперзвезда” и “папа-циклон”, был предпринят в целях саморекламы, привлечения общественного внимания к своей особе, а также для обеспечения того правоцентристского курса в церковных делах, который, судя по всему, становится основным кредо современного папства.
Что касается саморекламы, то в этом плане поездку папы во Францию можно считать весьма успешной. Он был в центре внимания печати, телевидения и радио, на него приходили посмотреть десятки тысяч людей. В газетах сообщалось, что на аэродроме в Ле-Бурже, где состоялась торжественная месса по случаю прибытия папы, было заготовлено 5 центнеров облаток для причащения и 500 центнеров сосисок для желающих перекусить, выстроено 5 тыс. уборных, дежурили 100 врачей, за порядком следили 20 тыс. католических бойскаутов, 15 тыс. полицейских Paese Sera, 29.05.1980.. Встречали римского понтифика, по сообщениям печати, и “веселые” девушки с площади Пигаль и окрестных “заведений”. В целом визит папы обошелся французским католикам в 6 млн. франков.
Много писалось и говорилось о встречах папы с президентом Жискар д’Эстэном и лидерами политических партий, с духовенством, польской колонией, о его выступлении в ЮНЕСКО, где папа говорил на тему о роли культуры в наше время. По насыщенности программа пребывания Иоанна Павла II во Франции выходила за рамки благоразумия. Она могла смутить любого, но только не папу. За пять дней визита он произнес 20 речей и проповедей, отслужил 10 богослужений, встретился с тысячами самых разнообразных людей и оставался свежим, энергичным, довольным, всем своим видом опровергая распространившиеся слухи о его пошатнувшемся здоровье.
Несмотря на видимость полного успеха визита папы во Францию, все газеты сошлись на том, что папу встречало значительно меньше людей, чем ожидалось. Обозреватели строили догадки: в чем здесь дело? В том ли, что французы легкомысленны, тяжелы на подъем и не желали отрываться от своих телевизоров, или в слабом влиянии церкви на массы, или в самом папе, выступления которого, окрашенные в консервативные тона, не вызывали у французов энтузиазма?
Вряд ли причину недостаточного энтузиазма французов по поводу визита главы церкви следует искать в особенностях их национального характера. А вот консервативная направленность проводимого Иоанном Павлом II курса несомненно сыграла здесь свою роль. Французские “левые” церковники весьма активно поднимали свой голос против этого курса. Католическая организация “Содружество Нагорной проповеди” устраивала враждебные по отношению к папе демонстрации, распространяла против него листовки, обвиняла папу в триумфализме, в том, что он ведет себя как “примадонна”, как “новый идол шоу-бизнеса” и т.п.
Если говорить о выступлениях папы во Франции, то они были двоякого порядка: по церковным делам и по международным вопросам. Касаясь церковных дел, Иоанн Павел II осудил как “прогрессизм”, так и интегризм в рядах духовенства. Он предупреждал своих слушателей против сил внутренних и внешних, пытающихся якобы сбить церковь с истинного пути. “С одной стороны, — говорил он, — мы находимся перед угрозой систематизированного атеизма, который навязывается нам извне во имя прогресса человека; с другой стороны, внутри церкви он навязывается теми, кто стремится всевозможными путями приспособляться к нынешнему миру, “разумному миру”. Таких “пророков” в рядах церкви имеется немало” Il Messagerro, 2.06.1980.. Войтыла призывал духовенство не поддаваться подобным соблазнам, защищать “сверхъестественный дух веры” и не допускать в церковной печати “крамолы”.
Такие призывы вряд ли могли вселить оптимизм в души прогрессистски настроенных французских прелатов. Ничего хорошего они им не сулили.
В более приемлемых для французов тонах были выдержаны высказывания Иоанна Павла II по международным вопросам. Он с одобрением отозвался о Варшавской встрече президента Жискар д’Эстэна с товарищем Л.И. Брежневым и предупреждал против угрожающей миру атомной катастрофы. Но кто же, по мнению папы, виновен в обострении международной обстановки? Агрессивные империалистические круги, раздувающие безудержную гонку вооружений и отвергающие курс на мир и разрядку? Вовсе нет. Создавшееся положение, по словам Иоанна Павла II, возникло вследствие геополитических причин, экономических неурядиц мирового масштаба, отсутствия взаимопонимания между государствами, а также из-за уязвленной национальной гордости, материализма, столь присущего нашей эпохе, и упадка моральных ценностей. Иначе говоря, из этих высказываний вытекает, что в создавшемся международном положении повинны все – все человечество. Выступая в ЮНЕСКО, папа много рассуждал о суверенитете культуры, призывая к защите его от “тоталитаризма , империализма, гегемонизма” Paese Sera , 7.06.1980.. Аналогии в истории всегда опасны, но разве не напоминает эта формула некоторые одиозные высказывания маоистов и их союзников на “далеком Западе”?
Понятно, что далеко не все, что говорил папа, удовлетворяло политически сознательную часть французских трудящихся. Тем не менее рабочая Франция воспользовалась его визитом, чтобы еще раз подтвердить свою решимость бороться вместе с трудящимися-католиками за лучшее будущее страны. Среди лидеров политических партий, присутствовавших на встрече с Иоанном Павлом II в Елисейском дворце, был и Генеральный секретарь французской компартии Жорж Марше. “Ясно, — писала в связи с этим “Юманите”, — что мы намерены строить новую Францию не против трудящихся-христиан, но вместе с ними. Ясно также, что мы не сможем ее построить без них” L’Humanite, 30.05.1980..
Остался ли папа доволен своим визитом во Францию? По всей видимости, да. Что же касается трудных проблем французской церкви, то вряд ли жесткий курс во внутрицерковных делах приведет к их решению.
* * *
Масса дел ждала папу по возвращении из Франции. Современные римские понтифики – люди занятые. Управление церковью, духовные обязанности, подготовка важных церковных документов догматического и другого характера, прием паломников, дипломатические обязанности и… политика.
21 июня 1980 г. папу посетил Картер. Обсуждались права человека в Латинской Америке, палестинский вопрос, развитие Африки и другие актуальные международные проблемы. Папа давал свои советы президенту США. Президент слушал и глубокомысленно кивал головой в знак согласия…
Quo vadis, Ecclesia?
Теологи утверждают, что католическая церковь возникла, чтобы обеспечить человечеству вечное спасение и вечное блаженство. Нам не дано судить о том, насколько продвинулась церковь за два тысячелетия существования в выполнении своей потусторонней миссии. Но в земных делах она продолжает оставаться на распутье, и многие современные католические деятели задают вопрос: “Quo vadis, Ecclesia?” (“Куда идешь, церковь?”).
Новая ориентация католической церкви, провозглашенная Вторым Ватиканским собором, несомненно, укрепила международный авторитет Ватикана и церкви в целом. Сегодня папство не является уже оплотом “холодной войны”, каким оно было до Иоанна XXIII. Павел VI неоднократно высказывался в пользу укрепления всеобщего мира, разрядки, разоружения. Ватикан подписал Заключительный акт совещания в Хельсинки. Немало было сделано Павлом VI и для нормализации отношений Ватикана с социалистическими странами. Он неоднократно высказывался за прекращение преступной агрессии американского империализма против Вьетнама; выражал симпатии в адрес народов бывших португальских колоний, сражавшихся за независимость; призывал к прекращению политических репрессий во франкистской Испании. Немало говорит о необходимости мира и разоружения и Иоанн Павел II. Однако Ватикан не порывает своих традиционных связей с господствующими, эксплуататорскими классами, хотя и пытается маскировать эти связи традиционными фразами о любви к страждущим.
Непоследовательная позиция, занятая Ватиканом после собора по отношению к острейшим социальным проблемам современности, послужила причиной серьезных осложнений внутри католической церкви, обострила противоречия между различными церковными течениями и группировками, вызвала недовольство рядовых верующих.
Обновленческая “революция” оказалась весьма поверхностной. Над церковью по-прежнему тяготеет бремя средневековых догм и установок. Она все еще решительно осуждает развод, ограничение рождаемости, применение противозачаточных средств, отстаивает безбрачие священников, накладывает санкции на служителей культа, высказывающих неортодоксальные взгляды.
Не оправдались и надежды обновленцев на демократизацию церковной жизни. Созданный после собора Синод периодически собирается, но, являясь чисто совещательным органом, особого влияния на ориентацию Ватикана не оказывает. Правда, была расширена кардинальская коллегия за счет увеличения количества представителей из развивающихся стран. Церковные иерархи, достигшие 75 лет, теперь автоматически удаляются на пенсию. Была упразднена папская дворянская гвардия, изменен порядок назначения епископов, кандидатуры которых теперь выдвигаются национальными конференциями епископата и только потом утверждаются папой. Среди чиновников курии сегодня значительно больше иностранцев, чем когда-либо в прошлом. Церковь отказалась от практики осуждений и отлучений. Однако, с точки зрения сторонников обновления, все это робкие и половинчатые меры, которые не могут привести к подлинной демократизации церковной жизни.
Послесоборное положение в церкви характеризуется появлением многочисленных центров и группировок, не согласных с “центристской” политикой Ватикана. Эти недовольные, так называемые контестаторы, в идеологическом и политическом отношении весьма неоднородны: среди них имеются сторонники единства действий с коммунистами, сторонники социализма, есть левацкие и даже анархиствующие элементы. Они располагают своими печатными органами, выпускают много книг, в которых подвергают острой критике различные аспекты деятельности Ватикана и церковной иерархии.
Не устраивает половинчатый курс Ватикана и интегристов, которые считают себя после собора потерпевшей стороной. Их лидер, архиепископ Лилля Марсель Лефевр, бывший оасовец, тесно связанный с неофашистскими группировками в Италии, Франции и ФРГ, щедро финансируемый ЦРУ и крупными западноевропейскими монополиями, открыто обвинял Павла VI в еретических отклонениях и чуть ли не в сговоре с коммунистами. Лефевр утверждал, что послесоборная церковь превратилась в “прелюбодействующую жену, порождающую ублюдков” Цит. по: За рубежом, 1976, № 52.. Лефевр открыл свою собственную семинарию в монастыре в Эконе (Швейцария), он не признает литургических изменений, одобренных собором, демонстративно устраивает богослужения по старому, дособорному образцу и постоянно угрожает Ватикану расколом.
* * *
Церковная иерархия, которая до собора находилась под строгим контролем курии и являлась ее послушным инструментом, в настоящее время разделена на несколько течений и группировок. На крайне правом фланге стоят такие воинствующие мракобесы, как архиепископ Лефевр, угрожающие отколоться от церкви, если Ватикан не вернется на старые, дособорные позиции. (По сообщениям западной печати, не подтвержденным Ватиканом, Лефевр был тайно возведен папой Иоанном Павлом II в кардинальское звание.) Затем идут интегристы более умеренного толка, они все еще влиятельны в итальянском епископате. Имеют интегристы своих сторонников также в Испании, Португалии, ФРГ, США. Однако большинство национальных епископатов стоят на обновленческих позициях. Бельгийские, голландские и частично французские иерархи не довольствуются решениями собора, выступают за углубление церковной реформы, в частности за отмену безбрачия, признание права на светский развод, регулирование рождаемости, дальнейшую демократизацию системы управления церковью, за большую автономию национальных епископатов.
С каждым днем все слышнее становится в церкви голос иерархов из развивающихся стран, многие из которых выступают с позиций антиколониализма. Особенно разительные перемены произошли в епископатах стран Латинской Америки, которые до собора отличались крайней консервативностью. Теперь церковные деятели этого региона поддерживают планы структурных преобразований в своих странах, осуждают фашистские и прочие реакционные режимы, олигархию, империализм. В ряде латиноамериканских стран среди священников весьма сильны радикальные тенденции.
На антиколониалистских, антиимпериалистических позициях стоят многие представители новой африканской и азиатской церковной иерархии, пришедшие после собора на смену европейским миссионерам. Они требуют себе больше прав, больше независимости от курии, больше внимания к своим нуждам и потребностям, искоренения старых, проколониалистских миссионерских методов работы среди местного населения.
К таким понятиям, как атеизм, коммунизм, социализм, философский модернизм, часть духовенства после собора старается подойти без предвзятости и недоброжелательства. Как сказал известный французский католический деятель Жорж Монтарон, Карл Маркс уже не пугает католиков Paese Sera, 27.09.1976.. Возможность, хоть и ограниченная, диалога с атеистами создает менее напряженную по отношению к ним атмосферу в церковных кругах, свидетельством чему является все растущее среди верующих течение “Христиане за социализм”, сторонники которого пытаются не столько примирить христианство с социализмом, сколько привлечь верующих, в том числе служителей культа, к борьбе за социализм. И хотя это течение осуждается курией, оно постепенно набирает силу в ряде стран Западной Европы и Латинской Америки.
Важные перемены произошли в католическом рабочем движении, которое постепенно утрачивает свой конфессиональный характер. Это сказалось и в изменении названия его центральной организации. Теперь она называется Международной конфедерацией демократических (вместо христианских) профсоюзов. Уже несколько лет католические профсоюзы во Франции, Италии, Испании, в ряде латиноамериканских стран выступают единым фронтом с классовыми профсоюзами в защиту прав трудящихся.
Продолжают активно действовать светские католические организации типа “Католического действия”, находящиеся под строгим контролем церковной иерархии. Для руководства этими организациями 2 января 1962 г. был создан в курии Совет мирян. Вместе с тем следует отметить, что значение и влияние организаций “Католического действия” в последние годы повсеместно пошло на убыль. На нынешнем уровне развития международного рабочего движения особенно отчетливо видна скудость их позитивной программы, их неспособность предложить конструктивные решения острейших социально-политических, этических, моральных проблем, от которых страдает современное капиталистическое общество, или злободневных задач, характерных для развивающихся стран.
Нынешний глава католической церкви папа Иоанн Павел II предпринимает немалые усилия, чтобы оживить громоздкий, малоповоротливый, допотопный церковный организм, осовременить его фасад, придать ему привлекательность в глазах международного общественного мнения. Свойственные Иоанну Павлу II мобильность, динамизм, энергия — все это столь не согласуется с традиционным обликом папы, что привлекает к нему особое внимание и определенные симпатии. Однако в действиях любого, в том числе религиозного, лидера важно не только, как он себя ведет, находясь перед телевизионными объективами, но и что он говорит, что проповедует. Пока очевидно, что папа Войтыла не превзошел Павла VI в своих реформистских устремлениях, хотя свойственный ему прагматизм вынуждает его действовать иногда более решительно, чем это делал папа Монтини.
Церковь — общественный организм, и, хотя ее иерархи по-прежнему утверждают, что их волнует прежде всего вечное спасение человечества, земные дела не только им не чужды, но стоят в центре их внимания больше, чем когда-либо в прошлом. Современный служитель церкви, в какой бы стране он ни жил, в первую очередь политик и только потом пастырь. И чем выше его пост, тем политика больше его интересует, а духовные дела — меньше.
До последнего собора католическая церковь выступала союзницей наиболее реакционных классов. Это вовсе не означало, что подавляющая масса католиков разделяла подобную политику. Ныне в политическом курсе Ватикана проявляется стремление более трезво учитывать реальное соотношение противоборствующих общественных сил в мире. Это нашло отражение и в выступлениях Иоанна Павла II во время его поездок в Бразилию и на Дальний Восток. Папа неоднократно высказывался там в пользу мира и разоружения, против социальной несправедливости, что вызвало недовольство ультраправых кругов. 13 мая 1981 г. на площади св. Петра в Риме папа был ранен турецким фашистом Агджой. Такая позиция главы церкви открыла перед трудящимися-католиками возможность более активно участвовать вместе с другими прогрессивными силами, включая коммунистов, в борьбе за социальную справедливость и мир.
Мир, в котором живет человек, меняется на наших глазах, и меняется он к лучшему. Не без усилий со стороны всех людей доброй воли, не без жертв, но перемены к лучшему происходят, они несомненны. Коммунисты верят в светлое будущее человечества, в способность людей через все препятствия совершить заветный скачок из царства необходимости в царство свободы. Эта вера вытекает из научного познания объективных законов развития человеческого общества, она подтверждается достижениями развитого социализма в Советском Союзе и опытом построения социализма в ряде других стран. С каждым днем все больше католиков и последователей других религиозных культов активно включаются в борьбу за это светлое будущее.