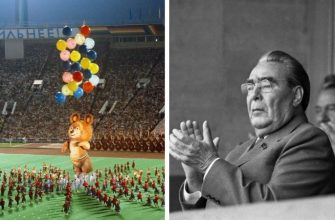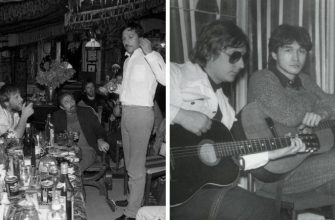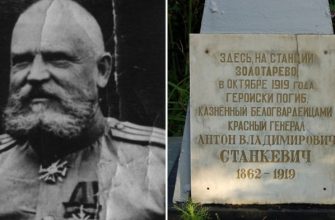Улицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, “весенняя обувь” горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно.
Вот как, по данным европейских археологов, выглядел настоящий французский рыцарь на рубеже XIV-XV вв: средний рост этого средневекового “сердцееда” редко превышал один метр шестьдесят (с небольшим) сантиметров (население тогда вообще было низкорослым).

Небритое и немытое лицо этого “красавца” было обезображено оспой (ею тогда в Европе болели практически все). Под рыцарским шлемом, в свалявшихся грязных волосах аристократа, и в складках его одежды во множестве копошились вши и блохи.
Изо рта рыцаря так сильно пахло, что для современных дам было бы ужасным испытанием не только целоваться с ним, но даже стоять рядом (увы, зубы тогда никто не чистил). А ели средневековые рыцари все подряд, запивая все это кислым пивом и закусывая чесноком – для дезинфекции.
Кроме того, во время очередного похода рыцарь сутками был закован в латы, которые он при всем своем желании не мог снять без посторонней помощи. Процедура надевания и снимания лат по времени занимала около часа, а иногда и дольше.
Разумеется, всю свою нужду благородный рыцарь справлял… прямо в латы. (Это далеко не всегда было так – при переходе обычно носили кольчуги, сплошные латы обычно одевали перед боем – слишком было в них тяжело. П.Краснов)
Некоторые историки были удивлены, почему солдаты Саллах-ад-Дина так легко находили христианские лагеря. Ответ пришел очень скоро – по запаху…
Если в начале средневековья в Европе одним из основных продуктов питания были желуди, которые ели не только простолюдины, но и знать, то впоследствии (в те редкие года, когда не было голода) стол бывал более разнообразным. Модные и дорогие специи использовались не только для демонстрации богатства, они также перекрывали запах, источаемый мясом и другими продуктами.
В Испании в средние века женщины, чтобы не завелись вши, часто натирали волосы чесноком.
Чтобы выглядеть томно-бледной, дамы пили уксус. Собачки, кроме работы живыми блохоловками, еще одним способом пособничали дамской красоте: в средневековье собачьей мочой обесцвечивали волосы.
Сифилис ХVII -XVIII веков стал законодателем мод.
Гезер писал, что из-за сифилиса исчезала всяческая растительность на голове и лице.
И вот кавалеры, дабы показать дамам, что они вполне безопасны и ничем таким не страдают, стали отращивать длиннющие волосы и усы.
Ну, а те, у кого это по каким-либо причинам не получалось, придумали парики, которые при достаточно большом количестве сифилитиков в высших слоях общества быстро вошли в моду и в Европе и в Северной Америке. Сократовские же лысины мудрецов перестали быть в почете до наших дней. (примечание: это некоторое преувеличение Гезера, волосы на голове брили, чтобы не разводить вшей и блох – П.Краснов)
Благодаря уничтожению христианами кошек расплодившиеся крысы разнесли по всей Европе чумную блоху, отчего пол-Европы погибло. Спонтанно появилась новая и столь необходимая в тех условиях профессия крысолова.
Власть этих людей над крысами объясняли не иначе как данной дьяволом, и потому церковь и инквизиция при каждом удобном случае расправлялись с крысоловами, способствуя таким образом дальнейшему вымиранию своей паствы от голода и чумы.
Методы борьбы с блохами были пассивными, как например палочки-чесалочки. Знать с насекомыми борется по своему – во время обедов Людовика XIV в Версале и Лувре присутствует специальный паж для ловли блох короля.
Состоятельные дамы, чтобы не разводить “зоопарк”, носят шелковые нижние рубашки, полагая, что вошь за шелк не уцепится, ибо скользко. Так появилось шелковое нижнее белье, к шелку блохи и вши действительно не прилипают.
Влюбленные трубадуры собирали с себя блох и пересаживали на даму, чтоб кровь смешалась в блохе.
Кровати, представляющие собой рамы на точеных ножках, окруженные низкой решеткой и обязательно с балдахином в средние века приобретают большое значение. Столь широко распространенные балдахины служили вполне утилитарной цели – чтобы клопы и прочие симпатичные насекомые с потолка не сыпались.
Считается, что мебель из красного дерева стала столь популярна потому, что на ней не было видно клопов. (Раздавленных клопов – П.Краснов)
Кормить собой вшей, как и клопов, считалось “христианским подвигом”. Последователи святого Фомы, даже наименее посвященные, готовы были превозносить его грязь и вшей, которых он носил на себе. Искать вшей друг на друге (точно, как обезьяны – этологические корни налицо) – значило высказывать свое расположение.
Средневековые вши даже активно участвовали в политике – в городе Гурденбурге (Швеция) обыкновенная вошь (Pediculus) была активным участником выборов мэра города. Претендентами на высокий пост могли быть в то время только люди с окладистыми бородами.
Выборы происходили следующим образом. Кандидаты в мэры садились вокруг стола и выкладывали на него свои бороды. Затем специально назначенный человек вбрасывал на середину стола вошь. Избранным мэром считался тот, в чью бороду заползало насекомое.
Пренебрежение гигиеной обошлось Европе очень дорого: в XIV веке от чумы (“черной смерти”) Франция потеряла треть населения, а Англия и Италия – до половины.
Медицинские методы оказания помощи в то время были примитивными и жестокими. Особенно в хирургии.
Например, для того, чтобы ампутировать конечность, в качестве “обезболивающего средства” использовался тяжелый деревянный молоток, “киянка”, удар которого по голове приводил к потере сознания больного, с другими непредсказуемыми последствиями.
Раны прижигали каленым железом, или поливали крутым кипятком или кипящей смолой. Повезло тому, у кого всего лишь геморрой. В средние века его лечили прижиганием раскаленным железом. Это значит – получи огненный штырь в задницу – и свободен. Здоров.
Сифилис обычно лечили ртутью, что, само собой, к благоприятным последствиям привести не могло.
Кроме клизм и ртути основным универсальным методом, которым лечили всех подряд, являлось кровопускание.
Болезни считались насланными дьяволом и подлежали изгнанию – “зло должно выйти наружу”.
У истоков кровавого поверья стояли монахи – “отворители крови”.
Кровь пускали всем – для лечения, как средство борьбы с половым влечением, и вообще без повода – по календарю.
“Монахи чувствовали себя знатоками в искусстве врачевания и с полным правом давали рекомендации”. Основная проблема была в самой порочной логике такого лечения – если улучшение у больного не наступало, то вывод делался только один – крови выпустили слишком мало.
И выпускали еще и еще, пока больной от потери крови не умирал. Кровопускание, как излюбленный метод лечения всех болезней, унесло, вероятно, жизней не менее, чем чума.
Была в средневековой Европе и хирургия. Даже если хирург научился резать быстро – а к этому они и стремились, памятуя Гиппократа: “Причиняющее боль должно быть в них наиболее короткое время, а это будет, когда сечение выполняется скоро” – то из-за отсутствия обезболивания даже виртуозная техника хирурга выручала лишь в редких случаях.
В Древнем Египте попытки обезболивания делались уже в V-III тысячелетиях до н.э. Анестезия в Древней Греции и Риме, в Древнем Китае и Индии осуществлялась с использованием настоек мандрагоры, белладонны, опия и т.п., в ХV-ХIII веках до н.э. для этой цели был впервые применен алкоголь. Но в христианской Европе обо всем этом позабыли.
Широко распространяются в средневековье лекарства из трупов и размолотых костей.
Гарманн приводит также рецепт “божественной воды”, названной так за свои чудесные свойства: берется целиком труп человека, отличавшегося при жизни добрым здоровьем, но умершего насильственной смертью; мясо, кости и внутренности разрезаются на мелкие кусочки; все смешивается и с помощью перегонки превращается в жидкость. (Как-то раз австрияки умертвили несколько тысяч турецких пленных и сделали из них снадобья – П.Краснов)
Нарочитое пренебрежение к смерти и презрение к земной жизни проявилось в таком явлении, как мода на человеческие черепа. Историк Рат-Вег поражался такому обычаю, широко распространенном в Европе еще в 18-ом веке:
“Трудно представить, что человеческий череп когда-то был предметом моды. Ненормальная мода родилась в Париже в 1751 году. Знатные дамы устанавливали череп на туалетный столик, украшали его разноцветными лентами, устанавливали в него горящую свечу и временами погружались в благоговейное созерцание”.
Но удивляться тут особенно нечему – у такого отношения к человеческим останкам глубокие корни. Христиане тысячелетие насаждали культ поклонения мощам /культ Смерти/. Как известно, первые христиане жили в катакомбах в окружении трупов.
Церковь добилась того, что народ в Европе еще в 17-ом веке свято верил, что истертые в порошок черепа и костяшки пальцев очень полезны для здоровья. Из обожженных костей счастливых супругов или страстных любовников приготовляли возбуждающий любовный напиток.
Выражение “переплет из человеческой кожи” скорее вызовет ассоциации с преступлениями немецких нацистов. Тем не менее прототипы этого абажуров и бумажников из кожи вполне немало.
Так, например, европейских книг, переплетенных в человеческую кожу, в библиотеках достаточно. Книги или пергамент, обернутые в человеческую кожу, появились в средневековье, когда стало широко практиковаться дубление человеческой кожи (и сохранение других частей тела).
Эти ранние книги до нас не дошли, хотя есть некоторые исторические сообщения касательно Библии XIII-ого века и текста Decretals (Католическое церковное право), написанных на человеческой коже (хранятся в секретных хранилищах Ватикана и у частных лиц).
как “мило”, правда – “просвещенная и гуманная Европа” – и никакого возмущения церкви и “демократической общественности”, с точки зрения европейца – все нормально. Просто такие у них нормы. А с точки зрения “дикарей” вроде русских – натуральный сатанизм. (П. Краснов)
Среди других переплетенных в человеческую кожу документов – копия Прав Человека и нескольких копий французской Конституции 1793 г.
Великий инквизитор Испании Томас де Торквемада (1420-1498), широко прославившийся своей священной борьбой с еретиками, стал своеобразным “лицом Инквизиции”, наряду с Крамером и Шпренгером.
Торквемада с истинно христианским человеколюбием сжег на кострах 10 220 человек. Гораздо меньше известно другое – сколько человеческого материала “врагов народа” было использовано более рационально. Сжигание заживо эмоционально заслоняет от нас куда большее количество “общественно полезных” приговоров образовавшейся в Испании “экономической инквизиции”.
Например, тем же Торквемадой к ссылке на галеры было приговорено 97 371 человек. Именно на галерах должны были эти еретики искупать свою вину перед Господом. Томас Торквемада был духовником инфанты Изабеллы Кастильской (той самой, которая гордилась тем, что мылась два раза в жизни).
В отношении “истинных” врагов Церкви (то есть, например, тех кто отказывался признать свою вину или посмел не “заложить” свою семью, родственников и друзей) Инквизиция была непримирима – только костер (Не только, но тем не менее, костров хватало – П. Краснов).
У остальных еретиков всегда был выбор: быстрая смерть в огне (тогда еще быстрая – сожжение на сырых дровах христиане придумают позже) или галеры. Ссылка на галеры фактически являлась той же смертной казнью, только отложенной – большинство приговоренных к пожизненной каторге не доживало даже до окончания второго года заключения.