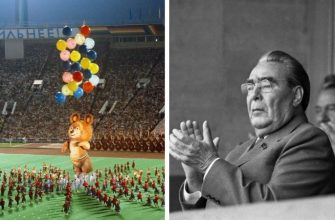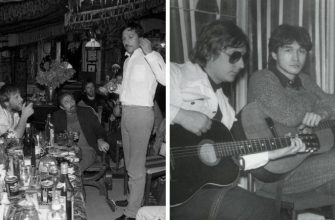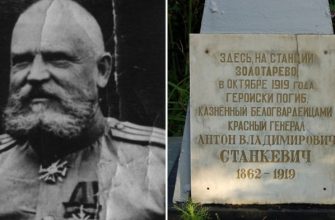Сюрреализма на Украине, слава тебе, Господи, никогда не было. Как не было когда-то секса в СССР, а потом он вдруг объявился. И барокко на Украине не было—в 84-м я написал статью «Довженко и украинское барокко», так ее печатать запретили ввиду возможных неприятностей в связи с обнаружением у меня признаков украинского буржуазного национализма.
Иначе говоря, сюрреализм, как и многие другие явления и отражающие их понятия, был исключен из легального категориального аппарата. Сказать про фильм, что в нем присутствуют черты сюрреалистической поэтики, означало похоронить и его, и автора заживо. Но вот читаю в дневниках Александра Довженко запись от 8 июня 1951 года. Он набрасывает историю для повести. Про то, как шведы, потомки некогда застрявших на Украине воинов Карла ХІІ, живут себе, поживают в советском колхозе. Шведское правительство после войны потребовало их репатриировать, и они оказываются на исторической родине. Но довольно быстро обнаруживается, что там скучно, «нет полета, нет великой цели». И, о ужас, они «начали духовно оскудевать». И тогда решили добираться обратно. Митинги в портах, всеобщая радость и счастье. Заключительная ремарка особенно торжественна: «Приехали на Родину и стали строить коммунизм».
В стране голод и холод, ужасная бедность, но все это ничего—колхозные шведы возвращаются строить некую эфемерность, некую сверх- или сюрреальность. Без этой стройки им просто нечем жить: «оскудевают» в одночасье. Разве мало было такого «сюра» в советском кино? Но, разумеется, часто это был вполне сознательный прием—никакого автоматизма письма, выброса подсознательных энергий не наблюдалось. Прорисовывалась картинка абсурда: люди строят нечто по лекалам, спущенным инженерами человеческих душ. Души мастерили, как умели, и иногда они все же взлетали.
Черты советского абсурда: художник—это человек, сумевший задраить все люки и отъединиться от большой Реалии. Его пространство внутренней свободы вполне автономно, и поэтому главная задача —не пропустить туда создателей внешнего, инженеров Большой Индустриальной Башни. На меже, на границе этих двух миров выстраиваются некие тексты-баррикады: чтобы не узнался даже сам вход в то самое Пространство свободы.
Сюрреализм—это когда вышепоименованное Пространство легализировано и вообще, по известному определению Андре Бретона, ослаблен контроль за разумом, отсутствует тотальная дисциплинарная матрица. И главное—в ситуации абсурда человек надежно скрыт в подполье, в качестве реального субъекта выдвинут его двойник. Т.е. имеем вполне рационально просчитанную стратегию. В сюрреализме есть реальный субъект отношения, которое выстраивается с другими персонажами большого историче-ского действа. Авторское бессознательное нередко обнаруживает огромный материк коллективного бессознательного и сопутствующий ему язык символов, нечто субстанциальное. Контакт между этими двумя субъектами системообразующ, он и позволяет создать сюжетную нить художественного текста. В качестве предварительной гипотезы можно сказать так: сюрреалистический сюжет—это история о том, как одна субстанция, личностная, освобождаясь от власти определенных коллективных дисциплинарных матриц, нащупывает другие, тоже коллективистские и, будучи захваченной ими, пытается ускользнуть, проследовать дальше. Но далее лишь Небытие. В этом и состоит страх, в этом чувство вселенского ужаса, которое нередко посещает нас при контакте с текстами, где, так или иначе, присутствует Сюрреальное.
Итак, сюрреализма как понятийно выраженного и внятно артикулированного явления в украинском искусстве, в сущности, никогда не было. Что вовсе не означает, что его не было как такового. Его не могло не быть, тем более в стране, многие столетия не имевшей своей государственности, удерживавшей в сознании образ некоего сверхреального единства. Отсюда примат чувственности и фантазийности, поисков свободы и собственно поэтического модуса рефлексий по поводу сюжетов реальности.
Корни украинского Сюрреализма, на мой взгляд, лежат в эпохе нашего национального Барокко. В ХVІІ–ХVІІІ веках начали прорисовываться черты украинской государственности—войны Богдана Хмельницкого против Польши породили потребность в создании некоего особого пространства, в котором коллективная душа смогла бы себя сыдентифицировать. Лучше всего это получилось в литературе и архитектуре. Самое поразительное для текстов того времени—уловление личностного хронотопного перемещения. «Будто мореходец плыву,— говорит, к примеру, философ Григорий Сковорода,— выглядывая, не видать ли сладчайшего от всех бед пристанища». Смерть при этом вовсе не Небытие, а лишь освобождение от страстей1. В других текстах Сковорода формулирует еще четче: самости можно достичь, лишь войдя в гавань, обретя некое пристанище; «тот же, кто поворачивает паруса в глубокое море», рискует потерять самое себя. Вероятно поэтому в украинских барочных церквях столь силен мотив домашнего покоя, уюта, в них используются элементы деревенской бытовой архитектуры. Человек, приходящий в такую церковь, погружался в мир знакомый, интимно прогретый. И вместе с тем это был большой патриархальный мир, состоящий из знаков и символов, как бы препятствующий проникновению иррациональных сил в мир семейно-индивидуальный.
Тем не менее в барочных текстах украинских авторов ХVІІ–ХVІІІ веков земная жизнь человека воссоздается как «юдоль плача»—от материнского лона до самой смерти. Обрести самость, пристанище можно лишь в результате сложнейшего, наполненного опасностями и искушениями путешествия, странствия. «Позорище мира», которым путешествует человек, оказывается «мысленными зеркалами», которые со всех сторон обступают душу. Тем самым фиксируются довольно напряженные отношения между человеком и его отражениями в текстах, этих «зеркалах» его внутренней сущности. Разумеется, здесь свое, самостное трактуется как производное от Творца, Вседержителя, однако любопытным является именно это: человек разделяет себя и образы себя как две отличных друг от друга сферы. Отсюда и напряжение, выражающееся в избыточности пластики, некой «бесконтрольности со стороны разума», которую ощущаешь особенно сильно на фоне Ренессансной этики и эстетики. Этой избыточностью с тех времен отмечено большинство явлений украинской художественной культуры, в том числе и кино.
Украинское барокко как целостное явление воспринималось—в конце ХІХ и в ХХ веке —как пластическое инобытие украинского духа, воспарившего и сгоревшего на ветру истории. Как, говоря несколько иначе, Атлантида, ушедшая под воду и оставшаяся в осколках, фрагментах на поверхности культурного слоя. Не случайно, к примеру, режиссер Юрий Ильенко, начиная работу над фильмом «Молитва о гетмане Мазепе», где сильно проявила себя поэтика сюрреального (мировая премьера картины состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2002 года), декларировал в виде цели легализацию национального Барокко, понимая последнее как некое похороненное сокровище, пространство, наполненное знаками и символами, расшифровав которые можно обрести самое себя.
Один из наиболее распространенных мотивов в украинской и русской литературах—восприятие Украины как некоего остановившегося в развитии культурно-исторического пространства. Покоренная Российской империей, превращенная в ее провинцию, она уже не способна на новый эволюционный виток,—таков взгляд, таково понимание. «Он любил Малороссию, знал, что она отжила уже свой век, состарилась и одряхлела духом преждевременно; чувствовал, что она скоро угаснет»,—говорит один из персонажей повести украинского писателя ХІХ века Пантелеймона Кулиша «Михайло Чернышенко, или Малороссия 80 лет назад». Достаточно вспомнить Ивана Бунина, несомненно любившего Украину, но вот так—как музейное, очищенное от случайностей и шереховатостей пространство, а потому прекрасное и гармоническое. Некое идеальное прошлое—красивые девчата в национальных костюмах, парубки, играющие в молодецкие игры, сады вишневые в цвету… А еще, конечно, запорожские казаки, с их неистребимым вольнолюбием, широкой амплитудой поступков и жестов. Красивый, богатый нюансами мир, но, увы, уже не существующий в живой, динамической истории.
Все это и стало материалом для двух феноменальных художников, в творчестве которых обнаруживаются черты сюрреалистической поэтики—Николая Гоголя и Тараса Шевченко (оба принадлежат ХІХ веку). Как разворошить этот устоявшийся, застывший мир, как сдвинуть с места жернова истории? Гоголь представляет два сектора национального бытия—один из фантазийного, во многом мистерийного материала, где правит бал иррациональное, внесознательное, из героического прошлого, где Тарас Бульба и казаки… Другой же из времени актуального, нынешнего, где варят варенье, пекут пироги, ссорятся из-за сущей ерунды. Объединить эти секторы можно под одной книжной обложкой, но как включить ток исторического времени?
Эту задачу и решал Тарас Шевченко—исключительно силами художественного слова. У него тоже, как и у Гоголя, присутствуют два мира, два национальных структурных образования. Сравнительно недавно американо-украинский исследователь Григорий Грабович в книге «Поэт как мифо-творец» достаточно рельефно представил оппозицию этих двух структур (использовав при этом категориальный аппарат, разработанный Виктором Тернером). В первой из них человек расщепляется на роли, которые он играет. Персонаж, роль, маска—вот чем здесь является человек. Во второй человеческое сообщество всегда представляется в виде земного рая, Эдема, тысячелетнего Царства Божия. Это идеальное сообщество свободных и равных граждан, полноценных личностей (близок подобному концептуальному видению чешский фильм «Bitva o zivot»). Личностное в первой модели всегда усекается, ограничивается, во второй таких ограничителей нет.
У Шевченко образы идеального сообщества вырастают на почве украинского прошлого. Что же касается современной общественной структуры, то она возникает в произведениях как «империя зла», как место и время, где все иерархизовано, роли поделены, маски приросли к некогда живым лицам. В знаменитой поэме «Сон», чья поэтика имеет определенные сюрреалистические черты, автор как бы раздваивается: он видит замечательные райские пейзажи Украины, видит красоту естества, где может вполне развиться и природа человека. На другом полюсе—имперская столица, Санкт-Петербург, город каменных изваяний и людей-фантомов, призраков, роботизированных чиновников, пекущихся главным образом о своем кармане. Ярость поэта по отношению к этому миру вполне сопоставима с той, что была свойственна сюрреалистам: все это хочется просто взорвать, отправить в Тартарары. Моментами появляется ощущение, что шевченково письмо достигает глубин подсознания, которое и выбрасывает на поверхность текста образы иррационального.

| Сюрреальное в украинском кино (эволюция мифопоэтического творчества). – Номер 66 |