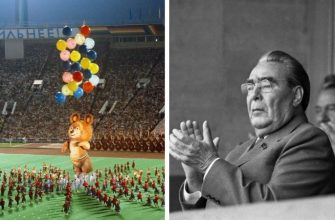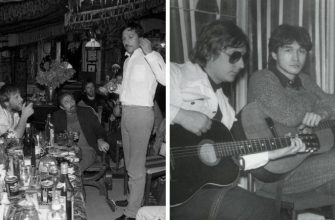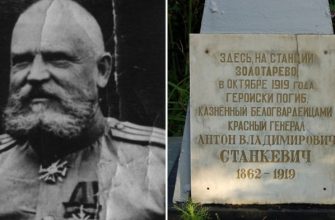Тень Талибана надвигается на Пенджаб.
Солнечным зимним днем вся культурная элита Лахора собралась на ежегодной выставке, проходящей в Национальном колледже искусств. Во внутреннем дворе молодые мужчины и женщины общаются друг с другом, куря сигареты и потягивая энергетики из жестяных банок. У некоторых мужчин волосы стянуты в хвост на затылке, а у одного пирсинг в брови.
Рядом стоит скульптура танцующей пары в натуральный рост. Если посмотреть с одной стороны, виден мужской торс, с другой – торс превращается в женскую грудь. На каком континенте находишься, сразу не понять: женщины в джинсах и туниках до середины бедра, волосы у некоторых убраны под платки. Можно заметить брелки с миниатюрами, на таких традиционно были представлены, скажем, сцены охоты – но здесь сюжеты иные: например, смелое изображение бородатого муллы, развалившегося в кресле на фоне разбомбленной школы. Талибам такое не понравилось бы…
Сочетание разных стилей и влияний, пестрая смесь народов и религий, которую так ярко описал Редьярд Киплинг в романе «Ким», – отличительная черта Лахора, второго по величине города Пакистана и столицы провинции Пенджаб. В этой самой процветающей и густонаселенной из четырех провинций Пакистана Восток сходится с Западом и вообще со всеми сторонами света. Даже кровавый раздел Британской Индии в середине XX века не повлиял здесь на яркую смесь лиц и языков.
Однако талибы и их союзники изо всех сил стараются сделать Пенджаб одноликим и одноцветным. В последние годы они устроили настоящую бойню. Насилие, пришедшее сюда из далеких пустынных племенных земель, лежащих на границе с Афганистаном, потрясло местных жителей, которые до недавних пор не обращали внимание на экстремизм, считая, что их это не касается. Забеспокоился и Вашингтон: а вдруг обладающий ядерным оружием Пакистан, союзник США в войне с терроризмом (хотя и не самый надежный), сползет в хаос?
Шах Великих Моголов Акбар выводил из себя правоверных мусульман, мирясь с индуизмом и христианством.
Девять лет назад я начал работать в Пенджабе корреспондентом. Первое время после черного 11 сентября 2001 года в провинции было относительно спокойно. Конечно, люди страдали от неустроенности, от местных боевиков-исламистов. Однако те, кто стоял на страже порядка – генералы, крупные землевладельцы, промышленники, – были в силе, равно как и суфизм – течение ислама, отличающееся терпимостью и мистицизмом, глубоко впитавшее музыку и поэзию, а потому ненавидимое фундаменталистами. Сможет ли это общество сохраниться таким, какое оно есть, и дальше?
Через несколько дней после выставки в Колледже искусств я встречаюсь с Имраном Куреши, возглавляющим отделение миниатюры. Мы входим в современный двухэтажный дом, где он живет с женой и двумя маленькими детьми. Хозяин, на вид моложе своих 38 лет, одетый в вельветовые брюки и свитер, проводит меня в гостиную, украшенную коврами ручной работы и обставленную мебелью в скандинавском стиле. Куреши и его жена Аиша Халид – известные художники, могли бы спокойно жить в Лондоне или Нью-Йорке, где часто выставляют свои работы. Но уезжать они не намерены. «Мне кажется, обстановка здесь становится более свободной, – с воодушевлением говорит Куреши. – Люди открыто разговаривают о политике, об отношениях полов, да обо всем. Десять лет назад все было не так».
Преданность Куреши своей стране и своему искусству произвели на меня сильное впечатление, как и его, по всей видимости, крепкая вера в цивилизованность и жизненные силы Пенджаба. Впрочем, возможно, он просто не очень хочет смотреть правде в лицо.
Крикет под минаретами. Земля Пенджаба, расположенная между Средней Азией и Индостаном, всегда оказывалась на пути завоевателей: македонцев, тюрок, монголов, персов, афганцев; здесь же проходили знаменитые торговые пути, по которым караваны двигались с Востока на Запад и обратно. Лахор был столицей нескольких сменявших друг друга династий и очагом удивительного культурного разнообразия. В конце XVI века шах Великих Моголов Акбар выводил из себя правоверных мусульман, мирясь с индуизмом и христианством. Сикхи, в чьи руки позже перешел город, не ограничивали себя в средствах, выделяемых на нужды не только своих святилищ-гурудвар, но и мечетей, и индуистских храмов. Британское владычество принесло университеты и каменные церкви; пенджабцы полюбили крикет и оксфордское произношение.
Мирное сосуществование всех со всеми закончилось в 1947 году, когда субконтинент раскололся на Индию и Пакистан. Пенджаб оказался богатой и вожделенной спорной территорией. Большая его часть, область размером с нынешнюю Великобританию, досталась Пакистану после череды кровопролитных столкновений между религиозными общинами, погубивших около миллиона человек. Политические границы, как заведено в человеческой истории, разделили народ. Пять миллионов индуистов и сикхов спаслись в Индии, восемь миллионов мусульман бежали в Пакистан.
Сегодня Пенджаб – это не только оплот политической и военной элиты Пакистана, которая в большинстве своем родом отсюда, но и почти 60 процентов пакистанской экономики. Здесь же сосредоточено более половины населения страны – 90 миллионов из 173 (то есть, больше, чем во всей Германии). Что касается среднего дохода на душу населения, то он примерно равен показателям провинции Синд, где находится быстро растущий город Карачи – финансовый и промышленный центр Пакистана.
Административной столицей государства в 1967 году стал Исламабад. Однако, возможно, именно Лахор, безумный и многоликий город, где живет восемь миллионов человек, остается культурной столицей Пакистана и живым воплощением истории его народа.
Верные антиамериканцы. Подобно студентам Колледжа исскуств, ученики Эйтчисон-колледжа, привилегированной школы для мальчиков, основанной англичанами в 1886 году, являют собой пример противоречий, характерных для современного Пакистана.
Ученики колледжа болтают за обедом о том, кто круче, Джей-Ло или Сальма Хайек. В то же время эти мальчики росли в период исламизации пакистанского общества, которая началась задолго до их рождения, в конце 70-х годов, когда к власти пришел военный диктатор генерал Мухаммад Зия-уль-Хак. И они сами, и их учителя глубоко осознают свою принадлежность к мусульманской культуре и порой испытывают сильное чувство недовольства всем инородным. «Все мы думали, что вы шпион, – сказал мне один из учителей, после того как я некоторое время проработал в колледже преподавателем. – Мы ненавидим американцев». Впрочем, неприятие американцев не мешает им носить блейзеры с девизом школы – «Упорство – залог успеха», и каждый день на закате они стоят навытяжку перед общежитием, когда под режущие ухо звуки горна, играющего вечернюю зорю, спускают школьный флаг.
Танцующие дервиши. Лахорцы старшего поколения тоскуют по более терпимой к радостям жизни эпохе, предшествовавшей правлению генерала. И все же культурная жизнь в Лахоре даже в эпоху исламизации не умерла. Сегодня одно из популярных развлечений не самого высокого пошиба – театр. Грязный зрительный зал всегда заполнен мужчинами, нередко подвыпившими. За порядком присматривают дюжие охранники с калашниковыми, а на сцене под визгливые записи песен из индийских фильмов извиваются танцовщицы в атласных трико и полупрозрачных туниках. Танцевальные номера перемежаются репризами юмористов, полными непристойных шуток и двусмысленностей. Зрители громко и отвязно шутят, обрушивая на своих любимиц дождь из рупий.
С одной из танцовщиц по имени Нида Чодри я разговариваю за кулисами, пока она ждет своего выхода. Из-за пурпурной помады и фиолетовых теней она выглядит старше своих двадцати с небольшим лет. Недавний вызов в суд из-за слишком откровенных танцев, похоже, не заставил ее измениться. «А что мне делать? – спрашивает она. – Танцевать в парандже?»
Впрочем, самый буйный танец из тех, что я видел в Лахоре, был исполнен не в театре, а в месте религиозного поклонения. Поздним вечером в четверг сотни людей, в основном молодых мужчин, собрались у мавзолея суфийского святого по имени Шах Джамаль, жившего в XVII веке. Они столпились вокруг трех барабанщиков и двух длинноволосых дервишей, которые с головокружительной быстротой вертелись вокруг своей оси на влажных от дождя и растоптанных розовых лепестков плитах, которыми был вымощен двор мавзолея. Над толпой плыл дым гашиша, раздавались возгласы «Аллах! Аллах-у!» и имена многочисленных святых. Дервиши налетели друг на друга, и все собравшиеся внезапно принялись толкаться. «Это наш рейв», – объяснил мне позже один знакомый пенджабец.
На самом деле все далеко не просто. Суфизм процветает на землях Индостана с тех самых пор, как многие столетия назад впервые появился здесь после вторжения тюрок. Особое значение в суфизме придается песнопениям в честь святых. Их часто исполняют каввалы, и заданный ими гипнотизирующий ритм вызывает духовный экстаз. Известные святые, такие как живший в XVIII веке поэт Буллех Шах, при жизни подвергались гонениям за вольнодум-ство. Сегодня их гробницы – места паломничества для миллионов верных последователей.
Седобородый старик сжал мою руку. «Мы любим Иисуса! – заявил он по-английски. – Иисус – тоже пророк!»
Представление у мавзолея Шаха Джамаля вполне отвечало духу суфизма. В сентябре прошлого года мы с фотографом Эдом Каши съездили в Митханкот, город на юго-западной окраине Пенджаба. Там похоронен живший в XIX веке святой по имени Ходжа Гулам Фарид, а в соседнем районе, говорят, действуют талибы. Однако приверженцы суфизма в Митханкоте вовсе не выглядят запуганными. В тот вечер, когда мы приехали в город, у покрытой куполом и освещенной зелеными огнями гробницы святого собралось на празднество несколько тысяч мужчин, женщин и детей. Толпа пела: «О, Фарид, о, истина!» – и слушала, завороженная, стихи святого о божественной и романтической любви, исполняемые нараспев под фисгармонию, на которой играл каввал. Ко мне подошел седобородый старик и крепко сжал мою руку. «Мы любим Иисуса! – заявил он по-английски. – Иисус – тоже пророк!»
В городе Пакпаттане похоронен Баба Фарид – суфийский мистик, живший в XIII веке и известный, помимо всего прочего, тем, что любил сладости. Воскресным днем паломники бросали конфеты на мраморные плиты мавзолея, ставшие липкими от проявления народной любви. Мужчины заходили внутрь, чтобы поцеловать зеленую ткань, укрывающую саркофаг. У самых дверей сидели Ашран Биби и ее 25-летняя дочь. (В большинство подобных святилищ женщинам входить запрещено). Биби, жена чернорабочего, рассказала, что у ее дочери проблемы с дыханием – с тех пор, как она пыталась покончить с собой. Они пришли к святому месту три дня назад в надежде, что Баба Фарид сделает то, что не удалось врачам. «У него хорошие связи, – говорит Биби, указывая на небо. – Мы рассказываем ему о своих проблемах, а он сообщает о них Аллаху».
Когда мы возвращались в Лахор, нашу машину обыскали на одном из блокпостов, которыми ощетинился город после очередной кровавой вылазки талибов. Возникло ощущение, что спокойная жизнь в Пенджабе кончилась.
Надежду на лучшее мне вернул Буллех Шах. Накануне отлета я посетил его мавзолей на окраине Касура. (Будучи приверженцем свободомыслия, святой не делал различий между кастами и верами и так допек этим правоверных, что они запретили хоронить его на мусульманском кладбище.) У мавзолея пожилая женщина протянула мне коробку. «Возьмите конфетку, – сказала она. – Во имя святого». Это обращение к чужестранцу тронуло меня: значит, учение Буллех Шаха не забыто – и, возможно, переживет проповеди талибов.