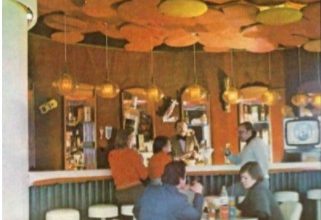В истории России XX в. имеется немало трагических, малоизученных страниц, одна из которых – введение большевиками института заложничества на Кубани и Черноморье в начале 1920-х годов. Кубань и Черноморье не являлись первыми территориями, где было применено заложничество в России, так как с лета 1918 г. до весны 1920 г. на этих территориях находились различные антибольшевистские силы, такие как Вооруженные силы Юга России, Комитет освобождения Черноморской губернии, полуавтономная от белогвардейцев Кубанская рада. В результате на территорию будущего Краснодарского края большевики пришли уже с испытанным и многократно проверенным, начиная с 1918 г., институтом заложничества.
В истории России XX в. имеется немало трагических, малоизученных страниц, одна из которых – введение большевиками института заложничества на Кубани и Черноморье в начале 1920-х годов. Кубань и Черноморье не являлись первыми территориями, где было применено заложничество в России, так как с лета 1918 г. до весны 1920 г. на этих территориях находились различные антибольшевистские силы, такие как Вооруженные силы Юга России, Комитет освобождения Черноморской губернии, полуавтономная от белогвардейцев Кубанская рада. В результате на территорию будущего Краснодарского края большевики пришли уже с испытанным и многократно проверенным, начиная с 1918 г., институтом заложничества.Институт заложничества в России был официально введен сразу после Октябрьской революции 1917 года. Этот шаг был вызван объективной слабостью большевиков, не имевших ни значительной поддержки населения, ни реальной экономической программы, ни грамотных специалистов для проведения внутренней и внешней политики. Удержать власть в своих руках большевикам было чрезвычайно трудно и они централизовали карательную политику, одним из средств которой стал институт заложничества.
Первым документом, регламентирующим взятие в заложники на территории Кубани и Черноморья, можно считать телеграмму ВЧК от 10 августа 1920 г. к населению Кубанской и Терской областей, Ставропольской губернии и Черноморского побережья. В этом документе Всероссийская чрезвычайная комиссия сетовала на деятельность бело-зеленых повстанцев, которые начали захватывать станицы и оружие, истреблять советских работников. К борьбе с повстанцами ВЧК призвала все трудовое население Кубани и Черноморья, которое должно было: сообщать военным властям о месте нахождения и численности бело-зеленых отрядов; принимать непосредственное участие в боях с повстанцами; сообщать обо всех подозрительных лицах, скрывающихся в станицах; своевременно сообщать обо всех проявлениях бело-зеленого повстанчества.
В случае невыполнения требований ВЧК население ожидала “беспощадная расправа”: станицы и аулы, которые укрывали бело-зеленых, должны были быть уничтожены, а взрослое население расстреляно; лица, оказывающие то или иное содействие повстанцам, – расстреляны; родственники
стр. 106
повстанцев, взятые на учет, в случае продолжения повстанчества арестованы и расстреляны. В случае массовых выступлений станиц и городов ВЧК грозила красным классовым террором, уничтожением за каждого убитого красноармейца или советского работника сотен лиц, “принадлежащих к буржуйным слоям”1 .
9 марта 1921 г. член Реввоенсовета IX Кубанской армии Эпштейн санкционировал взятие заложников в 20 населенных пунктах Кубанской области. В Славянском отделе заложников планировалось взять в станицах Ново-нижестебиевской, Старо-джермовской, Степной и Ивановской. В Ейском отделе – в Ейске и станицах Новоминской, Староминской, Албанской. В Майкопском отделе – в Майкопе и в станице Кубанская. В Баталпашинском отделе – в Баталпашинске и станице Темнолеской. В Кавказском отделе – в станицах Усть-Лабинской и Тихорецкой. В Краснодарском отделе – в станицах Эриванской, Баканской. Ключевой, Мартанской, Бжедуховской и Кущевке2 .
Спустя неделю Революционным военным советом IX Кубанской армии и Кубано-черноморским областным исполкомом было утверждено взятие заложников, что нашло свое отражение в секретном приказе N 393 от 15 марта 1921 года. В документе, в частности, отмечалось:
“С прекращением Гражданской войны вся Кубань приступила к мирному строительству. Все честные крестьяне и казаки, во исполнение постановления 8-го Всероссийского Съезда Советов, занялись энергичной подготовкой посевной кампании. Но некоторые элементы из кулацкого населения в своих мечтах о возврате помещика и капиталиста к власти вместо того, чтобы заниматься мирным созидательным трудом, сознательно поддерживают бело-зеленых бандитов, нападающих на мирные станицы и на одиночно следующих красноармейцев и советских работников.
Эта поддержка путем снабжения бандитов продовольствием, предоставлением убежища, поддержанием связи способствует размножению банд, успешности их к разрушительной работе.
РВС и КЧО ИКС приказывает:
1) начдивам и военкомдивам и командиру Кубанской отдельной стрелковой бригады (в пределах их районов) и отдельским исполкомам, по взаимному соглашению, немедленно взять из станиц, хуторов и аулов, оказывающих поддержку бело-зеленым бандитам, заложников из кулацких элементов;
2) широко оповестить население станиц и хуторов, что в случае убийств или ограбления красноармейцев и советских работников будет расстреляна часть заложников станиц, хуторов и аулов, в районе которых произошло преступление;
3) расстрел заложников производить по совместному единогласному решению начдивов, военкомдивов или комбрига Кубанской и отдельских Предисполкомов.
В случае разногласия, этим лицам обращаться в Реввоенсовет 9 и Облисполком для получения окончательного решения;
4) о каждом случае расстрела заложников и причин, вызвавших это, широко извещать население, немедленно донося Реввоенсовету 9 и Облисполкому.
Приказ ввести в действие по телеграфу”3 .
Данный документ был подписан временно командующим IX Кубанской армией Чернышевым, членом Реввоенсовета Эпштейном, заместителем председателя облисполкома Галактионовым и временно исполняющим дела начальника штаба Генерального штаба Кондратьевым.
В тот же день под грифом “совершенно секретно” РВС IX Кубанской армии и Кубано-черноморский облисполком издали приказ N 394, в котором конкретизировали санкцию Эпштейна на взятие заложников от 9 марта 1921 года. В приказе отмечалось:
“1. Немедленно по получении сего приказа на местах взять в качестве заложников, в числе от 5-ти до 10-ти человек, лиц из кулацких элементов и вообще враждебно настроенных против Советской власти в следующих горо-
стр. 107
дах и станицах: Ново-Нижестеблиевской, Старо-Джерневской, Степной, и Ивановской Славянского отдела, гор. Ейска, Албанской, Новоминской и Староминской – Ейского отдела, Кубанской и гор. Майкопа – Майкопского отдела, гор. Баталпашинска и Темнолесской – Баталпашинского отдела. Усть-Лабинской и Тихорецкой – Кавказского отдела, Эриванской, Баканской, Ключевой, Мартанской, Бжедуховской и Кущевки – Краснодарского отдела.
2. Заложников содержать в отделениях особого отдела армии на местах или в местных отдельских чрезвычайных комиссиях, где указанных отделений не имеется.
3. О каждом вынесенном смертном приговоре и о причинах его вызвавших немедленно, по выяснении, доносить телеграфом в Реввоенсовет армии и Кубчерисполком.
4. Приговор должен приводиться в исполнение через 48 часов после его вынесения, если за это время не последует особого распоряжения Реввоенсовета армии и Облисполкома о его приостановлении”4 .
Таким образом, на территории Кубанской области только приказом N 394 было санкционировано взятие в заложники от 100 до 200 человек.
После издания приказов N 393 и N 394 можно предположить, что местные органы власти увлеклись взятием заложников. Так, несмотря на то, что в Кавказском отделе бело-зеленых отрядов в марте замечено не было, началась активная подготовка к взятию заложников в станицах Тифлисской, Казанской, Кавказской, Новобекешовской, Тихорецкой, Новопокровской и Темижбенской5 .
На территории Кубанской области был распространен формуляр, указывавший, кого, в каком количестве необходимо брать в заложники. В рекомендации отмечалось, что заложником должен быть человек не старше пятидесяти лет, пользующийся авторитетом среди кулацкого населения, а также представители семей, являющихся противниками советской власти, ушедших с Врангелем или в бело-зеленые банды, активно способствующих бело-зеленым и сознательно ведущим антисоветскую пропаганду. Всех взятых заложников с точными списками под усиленным конвоем надлежало препроводить в гарнизонную тюрьму станицы Славянской.
После взятия заложников предлагалось широко оповестить население станицы, что в случае продолжения выступления банд, а также и отдельных лиц из населения вплоть до убийства советских работников, все взятые заложники будут беспощадно расстреляны6 .
С целью упорядочить процесс взятия заложников Кубано-черноморской военной и гражданской администрацией был издан приказ N 675 – 1131-оп от 3 мая 1921 года. В этом приказе РВС IX Кубанской армии и Кубчероблисполком объясняли, что в дополнение и изменение своих приказов от 15 марта за N 393 и N 394, Реввоенсовет и Кубано-черноморский областной исполнительный комитет советов приказывают:
1) право взятия заложников предоставить исключительно начдивам и военкомдивам, командирам и военкомам 39-й и 22-й стрелковых бригад (в пределах их районов), причем о взятии заложников немедленно доносить в РВС, с копией облисполкому;
2) все иные органы власти на местах, как военные, так и гражданские (не упомянутые в п. 1 настоящего приказа), в случае обнаружения фактов взятия ими заложников, привлекались суду по законам военного времени;
3) все ранее изданные приказы о заложниках, за исключением приказов N 393 и N 394, аннулировались.
Приказ был введен в действие по телеграфу, его подписали командующий IX Кубанской армией Левандовский, член Реввоенсовета Эпштейн, председатель Кубчероблисполкома Ян Полуян и временно исполняющий дела начальника штаба Генерального штаба Кондратьев7 .
Спустя четыре дня после последнего дополнения к приказам о заложниках РВС и облисполком расширили рамки проведения репрессий. В приказе N 693 от 7 мая 1921 г. отмечалось:
стр. 108
“Наглость бандитов не прекращается. Решив раз и навсегда положить конец бандитизму и вывести окончательно эту заразу, выполнение и развитие ранее отданных приказов (N 393, 394 и 675 – 1131-оп) Революционный Военный Совет IX армии и Кубанско-Черноморский Областной Исполнительный Комитет Советов приказывают:
Кроме заложников из кулацкого элемента и враждебно настроенного против Советской власти населения, в нужных целях применять репрессии к семьям бандитов, предоставив для применения таковых лицам, указанным в пункте 1 приказа N 675 – 1131-оп.
Приказ ввести в действие по телеграфу”8 .
Данный документ стал одним из последних приказов, регламентирующих порядок взятия в заложники на Кубани и Черноморье. В дальнейшем изменений в методах его проведения не происходило.
Таким образом, за сравнительно небольшой хронологический период нормативная база по взятию в заложники претерпела многочисленные изменения и распространилась в том числе на женщин и детей.
С эволюцией нормативной базы происходило изменение и в проявлениях взятия заложников. За период до марта 1921 г. взятие в заложники на Кубани и Черноморье происходило самочинным путем. Право на взятие имели все советские органы, включая местные станичные ревкомы. Заложников, если в населенном пункте не имелось арестного дома, отправляли в Краснодарский концентрационный лагерь.
Первые акции взятия заложников на территории Кубани и Черноморья можно датировать июнем-июлем 1920 г., то есть практически спустя 4 месяца после установления советской власти. Большевики отреагировали заложничеством на дезертирство мобилизованных в Красную Армию казаков. Сводка ГубЧК отмечала, что после взятия заложников из числа родственников и конфискации их имущества казаки стали возвращаться обратно9 .
16 января 1921 г. на Кубани и Черноморье были созданы еще два концентрационных лагеря в Новороссийске и Армавире. По всей вероятности там же осуществлялись казни заложников. Этому есть косвенные подтверждения. Так, в период с лета 1920 до зимы 1920 – 1921 гг. в Краснодарском концентрационном лагере количество заключенных колебалось от 100 – 120 до 800 человек. В январе 1921 г. это количество составило 511 заключенных. Самой малочисленной категорией, составляющей 5%, были “торговцы, мелкие спекулянты и элемент, не занятый общественным трудом”. На втором месте были бывшие военнослужащие Добровольческой армии – 17 – 20% находящихся в заключении. И самой большой категорией были заключенные, направленные в концлагерь приказами N 16 и 186, а также осужденные разными судебными органами. По данным на февраль 1921 г. за предшествующие ноябрь, декабрь, январь в лагерь прибыли 2805 человек. Убыли по амнистии, окончанию срока наказания и освобождению 1574 человека. По состоянию на январь оставалось 511 заключенных10 . Если предположить, что до ноября заключенных в лагере вообще не было, то количество расстрелянных будет равняться 720 заключенным.
В мае 1921 г. заложничество принимает огромные масштабы. Телеграмма ВЧК доносила, что на территории Армавирского отдела “кулачество терроризировано в связи с массовыми расстрелами заложников в ответ на налеты бандитов”. Это косвенно повлияло и на сдачу кубанскими зажиточными крестьянами и казаками продналога11 .
В мае бело-зеленое движение на Кубани и Черноморье расширялось. По состоянию на 1 мая 1921 г. согласно боевому расписанию бело-зеленых отрядов в тылу IX Кубанской армии в Кубано-черноморской области находилось 50 бело-зеленых отрядов общей численностью 1756 штыков, 2774 сабли, на вооружении которых имелся 51 пулемет12 . В руководстве повстанческого движения преобладали: казачьи офицеры среднего командного состава (сотник, хорунжий, подхорунжий) – 20 отрядов, старшие офицеры (полковник, есаул) – 13 отрядов и младший командный состав (вахмистры, урядни-
стр. 109
ки) – 1 отряд. Имелось также 16 отрядов неизвестного командования. Средняя численность бело-зеленого отряда достигала 100 чел., на вооружении которых был 1 пулемет.
В первой декаде мая произошло резкое увеличение повстанческого лагеря за счет присоединения мобилизованных повстанцами казаков. В Лабинском районе Армавирского отдела численность повстанцев резко увеличилась, составив 1 тыс. сабель под командованием казачьих офицеров Озерова и Пономарева. В Баталпашинском отделе численность повстанцев достигла 2 тыс. бойцов13 .
Социальный состав членов бело-зеленого движения был следующим: казаки, составляющие подавляющее большинство, офицеры, а также зажиточные хозяева, как из казаков, так и из крестьян14 .
В начале мая зеленая армия есаула Ропотова была переименована в Народную армию, и ее возглавил полковник Серебряков (Даутоков). Численность армии достигала 3 тыс. бойцов. В состав Народной армии вошли повстанческие отряды не только Баталпашинского, но и Майкопского и Краснодарского отделов Кубанской области. В течение мая армия провела несколько нападений на населенные пункты, заняла станицу Невинномысскую и сильно потрепала в боях одну из бригад РККА. Однако 17 мая брошенная против Народной армии 22-я стрелковая дивизия РККА разгромила повстанцев и пленила ее командира. Позднее на основе частей Народной армии была создана Кубанская повстанческая армия15 .
Дестабилизация обстановки в регионе привела к тому, что большевики объявили область на военном положении. Резкое увеличение повстанчества сыграло главную роль в систематизации применения института заложничества. Однако именно политика расказачивания способствовала формированию повстанческого движения на Кубани и Черноморье.
Наряду с применением заложничества, советская власть прибегла и к амнистии членов бело-зеленого движения. Амнистия была назначена на 1 сентября 1921 г., однако широкомасштабной сдачи не произошло. Для подавления повстанчества в регион прибыл командующий Первой конной армии СМ. Буденный. В приказе N 1 от 28 сентября 1921 г. говорилось: “За последние дни, выгнанные Красной армией из лесов и камышей бело-зеленые бандиты, распространились по Краснодарскому отделу. Своими отдельными группами и агентами они пытаются проникнуть в станицы, хутора и аулы. Зная, что после первого сентября последнего срока объявленной амнистии бело-зеленым, им не будет пощады, они сейчас решили действовать на провал. Приближающееся зимнее время, когда все равно пропадать придется в лесах, горах и камышах, еще более толкает их на безумные авантюры. Жалкой кучкой отпетых контрреволюционеров, бандитов-головорезов они пытаются мутить станичников и восстанавливают их против Советской власти.
Дав полную возможность всем раскаявшимся, всем обманутым возвратиться к мирному труду, Советская власть решила сейчас раз и навсегда покончить с бандитами и их приспешниками на Кубани. С этой целью я, Буденный, Командарм 1-й конной вступил в командование над всеми войсками Кубано- Черноморской области.
Предупреждаю все население Кубани и Черноморья и в первую очередь, станичное, что за малейшие услуги, которые будут оказаны бандитам, за их укрывательство, не будет пощады. Виновники будут расстреляны, их семьи выселены на север, имущество конфисковано. Не может быть жалости для тех, кто сейчас мешает мирно трудиться и спокойно жить.
Сейчас, когда Советская власть уже доказала на Кубани свою силу и преданность интересам трудового казачества, нет станичника, который бы не смог сказать с кем он, или с бандитами, или с Советской властью, с Красной армией, и кто не с нами, тот враг нам.
Предупреждаю: время убеждать, уговаривать прошло, нет и не может быть станичника, который помог бы бандитам, не противодействовал бы им и остался не наказанным. С вилами и топорами в руках, бейте их, станични-
стр. 110
ки. А осиные гнезда кулачья, Советская власть выжжет без остатка, ураганом артиллерийского огня она пройдется по тем станицам, которые, чем-либо: продовольствием ли, мобилизацией ли, помогают бандитам.
Красные войска должны, наконец, дать Кубани и Черноморью полное умиротворение и горе тем, кто стоит им на пути: будут уничтожать беспощадно.
Приказываю:
1. Взятых заложников ст. Мингрельской, в числе 17-ти человек, стан. Марьинской, в числе семи человек расстрелять.
2. Всех захваченных в ауле Тахтомукай, в числе 32 человек, мобилизовавшихся в банде Захарченко расстрелять.
3. Всех причастных к разбору пути у ст. Динской и порчи телеграфной линии у ст. Васюринской расстрелять”16 .
Помимо Буденного данный приказ был подписан уполномоченным представителем ВЧК Юго-востока России и начальником особого отдела СКВО Трушиным, начпусккво Сааковым, членами областного военного совещания Шарсковым, Полуяном, а также Эпштейном.
Приказ N 1 наглядно демонстрирует, что нормы взятия в заложники 5 – 10 чел. были не обязательными, они могли быть и превышены.
Летом 1921 г. отдельные отряды бело-зеленых в основном из разгромленных частей Народной армии полковника Серебрякова объединились в Кубанскую повстанческую армию. Деятельностью повстанческой армии руководил специально созданный штаб, во главе которого стоял генерал Пржевальский. В сентябре Кубанская повстанческая армия, насчитывавшая более 4 тыс. штыков и сабель, ставила своей задачей захват города Краснодара и поднятие восстания в областном масштабе17 .
18 сентября повстанческая армия переправилась через р. Кубань у аула Эдельсукай и сгруппировалась у станицы Старо-корсунской с целью нападения на Краснодар. Однако дислоцированная в регионе 22-я стрелковая дивизия РККА упредила повстанцев, и их объединенные силы были разбиты. Небольшая группа во главе с Пржевальским-Афросимовым и поручиком Самусем укрылась в горах и лесах в районе Горячего Ключа. Для ликвидации этой группы командир 22-й стрелковой дивизии РККА направил один из полков 66-й бригады, но повстанцы его разгромили, после чего сменили место дислокации, однако вскоре были разбиты другим полком РККА18 .
Политика заложничества распространялась на членов семей бело-зеленых. 10 октября 1921 г. из станицы Верхне-Баканской Краснодарского отдела в концентрационный лагерь г. Краснодара были отправлены две семьи Денисенковых и Бакановых общей численностью 16 чел., включая женщин и детей19 .
Помимо взятия в заложники осуществлялись и расстрелы членов семей повстанцев. В 1920 г. были расстреляны как заложники родители и двоюродные братья известного кубанского повстанческого командира полковника Жукова. В том же году большевики расстреляли отца и мать другого повстанца хорунжего Рябоконь20 .
26 марта 1922 г. в приказе N 16 Сочинского районного военного совещания был объявлен приказ N 7 Кубано-Черноморского областного военного совещания по борьбе с дезертирством, в котором в очередной раз обозначались сроки добровольной явки бело-зеленых. Повстанцам предлагалось в период с 17 марта по 1 апреля добровольно явиться с повинной в военный отдел при сельских исполкомах. В случае их добровольной явки семьи повстанцев, находившиеся в концентрационных лагерях, должны были отпускаться на свободу21 .
После применения против повстанцев политики заложничества резко сократилось участие населения в сопротивлении советской власти, что повлияло на масштабы повстанчества в 1922 году. В Лабинском отделе в районе станиц Передовая и Преградная попытку объединения малочисленных бело-зеленых отрядов предпринял полковник Васильев. В результате объединения
стр. 111
отрядов Васильева, Белова, Афанасьева и Турчина численность повстанцев достигла 200 сабель и штыков при 110 лошадях и 2 пулеметах 22 . В Тимашевском отделе продолжал повстанческую деятельность Партизанский отряд особого назначения под командованием хорунжего Рябоконь с общей численностью около 100 штыков. Партизанский отряд особого назначения был разбит на 2 сотни. В идеологическом плане отряд решил принять платформу эсера Савицкого и поддержать Кубанский краевой комитет23 . В то же время повстанцами активно распространялись слухи о высадке десанта английскими войсками с наступлением весны и о всеобщем восстании на Кубани24 .
Не мог положительно сказываться на настроении местного населения и голод 1921 – 1922 гг., особо ощущаемый с февраля по апрель 1922 года. Волнения среди населения происходили в Ейском, Кавказском, Тимашевском и Армавирском отделах, а также на Черноморском побережье. В Геленджикском районе были зафиксированы случаи сжигания матерями своих детей и выбрасывания в море. Сам Краснодар охватила эпидемия сыпного тифа25 .
В марте в Ейском отделе продолжал деятельность отряд сотника Дубины, отличившийся в мае 1921 г. при захвате в плен двух рот красноармейцев. Сотник назвал свое подразделение отрядом особого назначения имени тов. Буденного. Сложно сказать, для чего это было сделано, но, вероятно, маскировка здесь была не последним аргументом. Отряд в основном занимался грабежами. В конце мая отряд сотника численностью в 50 бойцов действовал в Ейском отделе26 .
По состоянию на 1 мая 1922 г. на территории Черноморья и в южных района Кубанской области действовало 13 отрядов общей численностью 383 сабли и штыка при 11 пулеметах.
В связи с усилением голода отношение крестьянства и казачества к советской власти продолжало ухудшаться, и в ряде станиц большевиками были зафиксированы случаи ухода казаков в горы27 .
Летом 1922 г. в целях окончательного разгрома контрреволюции на Кубани и Черноморье по населенным пунктам прошла очередная волна репрессий. В ходе карательной деятельности большевиков только в Ейском отделе за май-июнь было расстреляно 680 чел., среди которых было 90 повстанцев, 443 пособника и 143 заложника28 .
Тем не менее повстанчество на территории Кубано-Черноморской области себя не изжило. В кратком периодическом обзоре бандитизма на территории Северо-Кавказского военного округа (СКВО) за октябрь 1922 г. по данным на 1 ноября отмечалось, что в противоположность другим районам Кубано-Черноморская область продолжает быть убежищем повстанцев. Из 21 отряда, числящегося до 1 октября, 3 отряда (есаула Башта, казака Безлова и казака Волуйского) добровольно сдались, 3 отряда (Ларченко, Черкарьяна и Кирили), ничем не проявивших себя и частично уничтоженных, сняты с учета, а к оставшимся 15 отрядам присоединились новые (казака Самсоненко и полковника Головко). Таким образом, на Кубани и Черноморье действовали 17 отдельных бело-зеленых отрядов, которые насчитывали 159 штыков, 142 сабли, 14 пулеметов.
Из активно действовавших отрядов в обзоре отмечались: группа сотника Нелюбы, организовавшего Первый корниловский партизанский отряд из оставшихся частей отряда полковника Жукова; отряд хорунжего Рябоконь, совершающего налеты с целью грабежей; отряд сотника Кравцова, оперирующего тремя группами, добывая себе налетами продовольствие и фураж; отряд полковника Головко, объединившего остатки организации хорунжего Ющенко29 .
Цифры, приведенные в обзоре, позволяют оценить масштабы повстанческого движения и сравнить его с данными за 1921 года. В результате мы видим более чем десятикратное сокращение численности бело-зеленых, повстанцев.
Причинами столь резкого сокращения стали: карательная политика советской власти по отношению к местному населению (заложничество), что
стр. 112
вызывало у населения ненависть к повстанцам, которые считались причиной всех бед; многочисленные жертвы в среде повстанцев и их сторонников; “усталость от войны”, связанная с длительным периодом повстанческого противостояния.
Сокращение масштабов повстанчества привело к тому, что на территории Кубано-Черноморской области в конце 1922 г. было снято военное положение, и область зажила сравнительно мирной жизнью.
После ликвидации основных очагов повстанческого движения заложничество перестало носить постоянный характер, и в дальнейшем в связи с умиротворением станиц было упразднено.
О масштабах заложничества говорят следующие факты. В Ейском отделе за два месяца 1922 г. было расстреляно 143 заложника. Аналогичные расстрелы осуществлялись и в других районах Кубанской области. Наиболее опасным для советской власти был 1921 г., однако расстрелы осуществлялись и в 1920 году. Нужно учитывать особенности повстанческого движения, резко активизирующегося с наступлением тепла и прекращающего деятельность с наступлением холодов. Это влияло на масштабы взятия в заложники, как правило, зимой они значительно уменьшались. По самым приблизительным подсчетам, количество жертв от проведения политики заложничества на Кубани и Черноморье в 1920 – 1922 гг. составило от одной до нескольких тысяч человек.
Взятие в заложники на территории Кубани и Черноморья было распространено достаточно широко. Имели место факты взятия в заложники казачьей и крестьянской интеллигенции, зажиточных крестьян, священников, врачей, а также членов семей дезертиров и повстанцев.
Примечания:
1. Государственный архив города Сочи (ГАГС), ф. Р-116, оп. 1, д. 10, л. 11 – 12.
2. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК), ф. Р-102, оп. 1, д. 239, л. 2 – 2об.
3. Архивный отдел администрации города Новороссийска (АОГН), ф. Р-9, оп. I, д. 47, л. 63 – 63об.
4. Там же, л. 64 – 64об.
5. ГАКК, ф. Р-102, оп. 1, д. 239, л. 13.
6. Там же, ф. Р-596, оп. 1, д. 6, л. 44.
7. АОГН, ф. Р-9, оп. 1, д. 47, л. 65.
8. Там же, л. 64.
9. Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918 – 1939. Документы и материалы в 4-х томах. Т. 1. 1918 – 1922 гг. М. 2000, с. 304.
10. ГАКК, ф. Р-102, оп. 1, д. 117, л. 3 – 4об.
11. Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 1, с. 432, 438.
12. ГАКК, ф. Р-102, оп. 1, д. 138, л. Збоб., 37.
13. Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 1, с. 423.
14. ГАКК, ф. Р-102, оп. 1, д. 138, л. 62.
15. АОГН, ф. Р-79, оп. 1, д. 44, л. 209.
16. Там же, ф. Р-9, оп. 1, д. 26, л. 119.
17. Там же, ф. Р-79, оп. 1, д. 44, л. 208.
18. Там же, л. 209.
19. Там же, ф. Р-75, оп. 1, д. 20, л. 1об.
20. Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 1, с. 789, 803.
21. ГАГС, ф. Р-129, оп. 1, д. 14, л. 3.
22. Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 1, с. 570.
23. Кубанское повстанческое правительство, организованное эсерами-самостийниками в феврале 1921 года.
24. Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. Т. 1, с. 570.
25. Там же, с. 572.
26. Там же, с. 590, 635.
27. Там же, с. 618.
28. БАРАНОВ А. В. Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в условиях новой экономической политики (1921 – 1929 гг.). СПб. 1996, с. 192.
29. Российский государственный военный архив (РГВА), ф. 58, оп. 1, д. 80, л. 62.
стр. 113
Опубликовано в журнале “Вопросы истории”, № 10 за 2004 год, C. 106-114
Автор: Черкасов А. А. – кандидат исторических наук. Сочи.