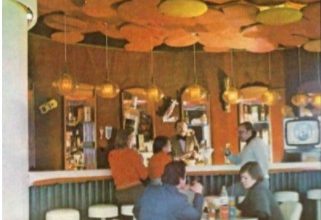- Введение
- США в ответ на создание атомной бомбы в СССР форсируют программу создания термоядерного оружия
- СССР создаёт и испытывает улучшенные образцы атомных зарядов, ведёт работу по созданию термоядерного оружия
- Подготовка к испытанию термоядерных зарядов начинается в конструкторских бюро и институтах СССР
- Основные цели испытаний термоядерного заряда РДС–6с
- Подготовка опытного поля и измерительных методик к испытаниям РДС–6с
- Испытания… «Получилось». Россия делает сама
- Радиационная обстановка после испытания первой термоядерной бомбы в 1953 году
- Общие итоги исследований при испытании РДС–6с
- От зарождения идеи до изготовления термоядерной бомбы РДС–37 — будущей оснооы термоядерных зарядов в СССР
- Подготовка полигона и измерительных методик к испытаниям
- Создание РДС–37 открывает дорогу к современному термоядерному оружию
- Радиационная обстановка вокруг семипалатинского полигона после испытания термоядерной бомбы РДС–37
Введение
Переход к созданию термоядерного оружия явился переломным моментом. С военно-политической точки зрения он означал возможность неограниченного увеличения энерговыделения ядерных арсеналов. С научно-технической точки зрения это было исключительно эффективное, технологичное и экономичное решение проблемы увеличения энерговыделения и поражающих факторов ядерных боеприпасов.
Первые образцы термоядерного оружия были созданы в СССР и США практически одновременно. 21 октября 1952 года США испытали термоядерное устройство Mike, которое не являлось транспортируемым зарядом и представляло, по существу, взрывную лабораторную установку. 12 августа 1953 года в СССР был испытан первый термоядерный заряд РДС–6с, который в принципе мог быть использован как ядерный боеприпас. Это было одноступенчатое ядерное взрывное устройство, выполненное по типу слойки. В 1954 году в результате проведения шести экспериментов серии Castle в США были созданы первые образцы термоядерного оружия. 22 ноября 1955 года в СССР был испытан первый двухступенчатый термоядерный заряд РДС–37, который послужил прототипом для разработки и создания будущего термоядерного арсенала СССР.
Хотя возможности американского производства позволили США в конце 50-х годов добиться существенного роста мегатоннажа ядерного арсенала по сравнению с СССР, впоследствии этот разрыв был ликвидирован, и фундаментом для этого явились достижения СССР в разработке первых термоядерных зарядов. Можно с уверенностью сказать, что если бы нам не удалось создать собственные образцы термоядерных зарядов или если бы этот процесс существенно затянулся, США вернули бы себе ядерную монополию, и возможность СССР в военном противостоянии с США была бы сведена практически к нулю. Тогда история второй половины XX века могла быть совершенно другой.
США в ответ на создание атомной бомбы в СССР форсируют программу создания термоядерного оружия
Испытание советской атомной бомбы 29 августа 1949 года оказалось полной неожиданностью для Соединённых Штатов. Специалисты США прогнозировали её создание и испытание в СССР в пятидесятые годы. Поэтому реакция правительственных кругов США, министерства обороны и Комиссии по атомной энергии была однозначной: начать интенсивную программу разработки всех разновидностей атомного оружия, возобновить программу создания водородной бомбы, построить реактор для производства трития.
31 января 1950 года президент США Трумэн объявил о своём решении начать полномасштабную программу разработки супербомбы (водороднойбомбы).
Учёные США (в частности, Э. Теллер) начали заниматься термоядерной проблемой ещё в период создания атомной бомбы. Однако после атомной бомбардировки Японии и окончания второй мировой войны интенсивность работ в Лос-Аламосе по атомному оружию в связи с уменьшением их актуальности несколько спала. В период до 1951 года было проведено всего пять испытаний: два — для изучения воздействия ядерного взрыва на военные корабли (1946), три — в интересах совершенствования атомных зарядов (1948).
Исследования по термоядерной проблеме продолжала небольшая группа специалистов. Согласно книге H.Y. York „Advisors. Oppenheimer, Teller and the Superbomb“, результаты работ по водородной бомбе в 1945–1950 гг. можно представить следующим образом:
| 1946 г., 12 июня | Доклад конференции о „Супере“.
2. Термоядерные нейтроны при горении небольшого количества смеси трития и дейтерия увеличивают эффективность деления плутония или урана. |
| 1946–1948 гг. | Продолжают изучаться почти все аспекты проблемы. |
| 1948–1950 гг. | Становится очевидным, что классический „Супер“ (дейтерий)не работоспособен. Для того, чтобы термоядерная реакция протекала, необходимо большое количество трития. Теоретически и экспериментально изучены скорости термоядерных реакций в дейтерии, смеси дейтерия с тритием, дейтериде лития с разным обогащением лития-6. Проведены расчёты нагрева и охлаждения термоядерного горючего в зависимости от температуры и плотности. В целом было не ясно, как сделать водородную бомбу, и не было возможности обосновать её расчётную работоспособность. |
Запущенная по решению президента машина быстро закрутилась. В Соединённых Штатах и Советском Союзе началась невиданная гонка по разработке ядерного и термоядерного оружия, приведшая к созданию в восьмидесятые годы многотысячных ядерных арсеналов с обеих сторон.
На момент объявления президентом программы создания водородной бомбы складывалась следующая ситуация.
Имевшиеся идеи супербомбы, основанной на детонации дейтерия взрывом атомной бомбы и усилении цепной реакции деления за счёт нейтронов Д + Т-реакций внутри атомной бомбы, не были решением проблемы создания водородной бомбы. Конструкция супербомбы, как показали расчёты физика С. Улама, оказалась неработоспособной. В серии испытаний Greenhouse в мае 1951 года американские физики провели проверку режима термоядерного горения (взрыв George). Но ещё до этого испытания, в марте 1951 года, как следует из американских публикаций, в ходе дискуссий между С. Уламом и Э. Теллером были найдены новые возможности для конструирования водородной бомбы. Суть их предложений была основана на „сжатии и инициировании пространственно разделённого вторичного термоядерного узла (secondary)большой мощности“ (C. Paul Robinson, „The Weapons Program, Overview“, Los Alamos Science, 7, p. 110, 1983).
Эта схема была успешно испытана в термоядерном устройстве Mike в ноябре 1952 года. В качестве термоядерного горючего использовался жидкий дейтерий. Взрыв мощностью 10,4 Мт ознаменовал момент вступления США в век термоядерного оружия, хотя конструктивно устройство Mike не являлось оружием.
Первый сброс термоядерной бомбы с самолёта Соединённые Штаты произвели 20 мая 1956 г., т. е. через полгода после испытания в СССРРДС–37 (1,6 Мт). Примечательно, что создание термоядерного оружия в США изначально было связано с разработкой зарядов большой мощности: Mike — 10,4 Мт; серия Castle (1954 год) — 15, 11, 6,9, 13,5, 1,69 Мт; серия Redwing (1956 год) — 3,5, 4,5, 5 Мт и т. д.; серия Hardtack 1(1958 год) — 1,37, 8,9 Мт и т. д.
Появление стратегических ракет, особенно морского базирования, увеличение точности их наведения изменили в дальнейшем эту ситуацию, и разработка оружия была перенесена в область субмегатонных мощностей.
СССР создаёт и испытывает улучшенные образцы атомных зарядов, ведёт работу по созданию термоядерного оружия
Создаваемые в условиях глубокой секретности конструкции водородных бомб в США и СССР основывались на одних и тех же физических законах, отталкивались от одинаковых тенденций развития оружия, и поэтому естественно, что во многом независимо друг от друга учёные Запада и Востока в конечном итоге приходили к близким результатам.
Когда президент Трумэн объявил о начале программы водородного оружия, Советский Союз уже в полную силу работал над ней. С 1946 года группа Я.Б. Зельдовича (А.С. Компанеец и С.П. Дьяков) из Института химической физики проводила расчёты термоядерной детонации дейтерия. Работы в этом направлении велись до 1954 года.
С 1948 года к решению данной проблемы присоединилась группа И.Е. Тамма, в которой работал А.Д. Сахаров.
В 1950 году работы по этой программе развернулись в полную силу, строились заводы, разрабатывались соответствующие технологии. В августе 1953 года на Семипалатинском полигоне первая советская термоядерная бомба РДС–6с была успешно испытана. В отличие от американцев советские учёные и конструкторы решали при создании РДС–6с сразу все три главные задачи:
1. Проверяли работоспособность физической схемы заряда.
2. Создавали образец в конструктивном оформлении, полностью совместимом со средствами доставки, т. е. сразу создавали оружие.
3. Испытательный образец заряда изготовлялся с учётом его дальнейшего серийного производства.
Эта тенденция стала типичной для всей дальнейшей работы по подготовке ядерных и термоядерных зарядов к испытаниям.
Испытание РДС–6с в августе 1953 года, как стало ясно её разработчикам уже в 1954 году, не решало полностью проблемы создания водородной бомбы. При попытках получения мощности в несколько мегатонн сразу возникали трудности, и, хотя планами 1954 года предусматривалось продолжение работ над зарядами типа РДС–6с, главной постепенно становилась работа над идеей двухступенчатой конструкции. Суть её, если отвлечься от типа термоядерного горючего, та же, что была заложена в американском устройстве Mike.
Со второй половины 1954 года работа над новой схемой термоядерного заряда, получившего индекс РДС–37, становится приоритетной. Для физиков открылись новые области приложения своих знаний. Многие константы, характеризующие свойства веществ, были неизвестными, для диагностики требовалось создание новых физических методов измерения быстропротекающих процессов. Здесь, как никогда, был важен вклад специалистов различных специальностей. При конструировании РДС–37 важная роль в моделировании физических процессов была отведена только что появившимся электронно-вычислительным машинам. Заряд проектировался как авиабомба, с самого начала планировалось его испытание при сбросе с самолёта.
Все работы были закончены к ноябрю, и 22 ноября 1955 года термоядерный заряд РДС–37 был успешно испытан. В этот же день Н.С. Хрущёв, находясь в Индии, заявил о создании в СССР мощного термоядерного оружия.
В последующие годы (1956–1958) было создано целое семейство термоядерных зарядов по новой схеме, ставшей классической. Происходило её дальнейшее развитие в направлении повышения эффективности, в первую очередь, увеличения энерговыделения в единице веса заряда. В отличие от американских мощности советских термоядерных зарядов того времени не превышали трёх мегатонн.
Большое семейство термоядерных зарядов самых разнообразных конструкций было испытано в серии испытаний 1961–1962 гг.
В табл. 5.1 и табл. 5.2 приведена хронология создания и испытания первых образцов термоядерного оружия в СССР и США.
| Годы | Основные этапы работ |
|---|---|
| 1942 | Теллер начинает разрабатывать проблему термоядерного горения в бомбе |
| 1945, 16 июля | Взрыв первой атомной бомбы |
| 1945–1947 | Проекты: 1) супербомба, детонация дейтерия; 2) горение Д + Т-смеси в атомной бомбе, увеличение эффективности делений |
| 1949 | Теоретические и экспериментальные исследования процессов, протекающих в термоядерных материалах — дейтерии, тритии, дейтериде лития: 1) решение принципиальных проблем; 2) становится очевидно, что классический „супер“ (детонация дейтерия) неработоспособен |
| 1950, 31 января | Объявление Трумэном программы создания H-бомбы |
| 1951, май | Серия испытаний. Испытание режима термоядерного горения (George) |
| 1952, ноябрь | Испытание Mike — заложены основы термоядерного оружия, горючее — жидкий дейтерий |
| 1954, март | Серия Castle термоядерного оружия на основе дейтерида лития |
| Годы | Основные этапы работ |
|---|---|
| 1946 | И.И. Гуревич, Я.Б. Зельдович, И.Я. Померанчук, Ю.Б. Харитон рассматривают использование для взрывных целей ядерной реакции превращения дейтерия в водород и тритий, осуществляемой детонационным способом. Создана группа Я.Б. Зельдовича (Институт химической физики): Д.А. Франк-Каменецкий, Н.А. Дмитриев, Г.М. Гандельман, К.П. Станюкович, А.С. Компанеец, С.П. Дьяков: группа организационно относилась к КБ–11, которое входило в состав Лаборатории № 2 (Постановление Совета Министров СССР от 8 апреля 1946 года); группа Я.Б. Зельдовича тесно взаимодействовала с группой Л.Д. Ландау (И.М. Халатников, А.А. Абрикосов,Н.Н. Мейман и др.) в Институте физических проблем АН СССР. Круг исследований: 1. Теоретическое обоснование атомной бомбы. 2. Теоретическое обоснование термоядерного устройства на принципе детонации дейтерия |
| 1948 | Часть группы Я.Б. Зельдовича (Д.А. Франк-Каменецкий, Н.А. Дмитриев, Г.М. Гандельман) переезжает на объект(База № 112, ныне г. Саров). Сотрудники, оставшиеся в Москве, продолжают работу под руководством Я.Б. Зельдовича |
| 1948 | Образованы ещё две группы теоретиков и математиков, занимающиеся проблемой термоядерного устройства(Постановление СМ СССР от 10.06.48 г.): группа И.Е. Тамма: С.3. Беленький, В.Л. Гинзбург, А.Д. Сахаров, Ю.А. Романов, Е.С. Фрадкин (Физическийинститут АН СССР); группа Н.Н. Боголюбова: В.Н. Климов, Д.В. Ширков (Институт химической физики) |
| 1948, июнь | Принято постановление СМ СССР о разработке серии атомных бомб (РДС–2, РДС–3, РДС–4, РДС–5)и водородной бомбы РДС–6с |
| 1948, июль | Группа И.Е. Тамма начинает взаимодействовать с группой Я.Б. Зельдовича. Через несколько месяцев (осень)А.Д. Сахаров предлагает новый подход к конструкции термоядерного устройства |
| 1948, осень | В.Л. Гинзбург предлагает в качестве термоядерного горючего дейтерид лития |
| 1949, 29 августа | Успешное испытание первой атомной бомбы в СССР |
| 1950, март | Прибытие на объект (г. Саров) группы в составе И.Е. Тамма, А.Д. Сахарова, Ю.А. Романова |
| 1953, 12 августа, 7:30 утра | Успешное испытание РДС–6с |
| 1953, 15 декабря | На совещании у главного конструктора принято решение продолжать создание сверхмощных изделий по направлению РДС–6с |
| 1954, (февраль) | На совещании у министра среднего машиностроения В.А. Малышева принято решение о прекращении на объекте (г. Арзамас-16) работ по детонации дейтерия |
| 1952–1953 | Появились предложения — использовать энергию атомного взрыва для обжатия термоядерного узла, пространственно отделённого от атомного заряда |
| 1954, весна | Обжатие термоядерного узла за счёт энергии первичного заряда |
| 1954, вторая половина | Новая идея обжатия термоядерного узла становится на объекте приоритетной (принципиальный вклад внесла группа сотрудников КБ–11, включая А.Д. Сахарова, Я.Б. Зельдовича, Ю.А. Трутнева). Конструируется заряд с индексом РДС–37 |
| 1955, середина года | Проведение экспертизы конструкции РДС–37 выдающимися учёными СССР под председательством М.В. Келдыша |
| 1955, до ноября | Теоретическое обоснование, расчёты, выбор конструкции заряда, боеприпаса, системы подрыва, парашютной системы, разработка и подготовка диагностической аппаратуры, производство компонентов и заряда в целом, организационная работа по подготовке испытания |
| 1955, 22 ноября, 9:47 утра | Успешное испытание на Семипалатинском полигоне РДС–37. Изделие было сброшено с самолёта-носителяТУ–16 и подорвано системой автоматики на высоте 1550 метров. Мощность — 1,6 Мт |
В течение двух лет после первого успешного испытания ядерного заряда в КБ–11 (г. Арзамас-16) создавались более совершенные образцы. Их разработка требовала проведения большого объёма расчётно-теоретических и экспериментальных исследований. На совещаниях разного уровня и заседаниях научно-технического совета обсуждались результаты расчётно-теоретических, проектно-конструкторскихи экспериментальных работ, постановка физических измерений, проводились отбор и тренировки исполнителей к проведениюсборочно-монтажных и проверочных работ с изделиями на полигоне. Проверка работоспособности автоматики изделий и их приёмка осуществлялись отделом технического контроля (ОТК), военным представительством и комиссией Первого главного управления.
Два года было направлено не только на разработку новых зарядов, переход от поискового характера наблюдений и регистрации явлений, сопровождающих ядерный взрыв, к чётко очерченному комплексу измерений с высокой и обоснованной точностью измерения основных характеристик зарядов, но и на организацию исследований процессов как с точки зрения более глубокого представления об их природе, так и их использования в дальнейшей работе по созданию новых зарядов.
Подготовка к испытанию термоядерных зарядов начинается в конструкторских бюро и институтах СССР
К апрелю 1953 года все элементы термоядерного заряда РДС–6с были отработаны: освоена технология изготовления узлов и деталей заводами, прочностные испытания доказали возможность транспортировки заряда автомобильным и железнодорожным транспортом в полностью собранном виде.
К этому времени была разработана, изготовлена и прошла успешную проверку система подрыва ВВ заряда.
На заключительной стадии отработки находились баллистический корпус авиабомбы и бортовая аппаратура автоматики управления подрывом заряда на траектории.
В.И. Жучихин, вспоминая об этом периоде, рассказывает: „Нам было известно, что разрабатывался новый самолёт для этой бомбы — реактивный бомбардировщик ТУ–16, который мы увидели в следующем году. А пока предстояло провести испытание первой водородной бомбы в стационарных условиях без баллистического корпуса на металлической башне, как и её предшественников РДС–1 и РДС–2. Этой первой советской водородной бомбе был присвоен индекс РДС–6с. В это время произошло событие величайшей важности: смерть Сталина. Все мы находились под страшным гипнозом вождя и учителя всех времён и народов, и его уход из жизни многих привёл в растерянность: что же будет дальше?
В стране тогда осуществлялись большие реформы: разделены партийная, государственная и исполнительная власти, укрупнены министерства. В какое министерство вольют наше ведомство, и будут ли подвергнуты корректировке планы наших разработок? Будет ли произведено испытание водородной бомбы, разработка которой практически была уже завершена? Невольно эти вопросы возникали почти у каждого.
Вскоре в институт прибыла высокая комиссия с целью определения полноты отработки конструкции водородной бомбы. Это вселило уверенность, что всё идёт по задуманному ранее плану. В течение лета и осени предстояло провести испытания нескольких вариантов и более экономичных ядерных зарядов.
Термоядерный заряд предстояло испытывать в стационарных условиях, ядерные заряды — сбрасыванием с самолёта-носителяТУ–4 в составе авиабомбы.
По всем вопросам полноты отработки конструктивных элементов зарядов в целом комиссия очень подробно изучала результаты теоретических расчётов и экспериментальных исследований. Особое внимание обращалось на результаты исследований обжатия активных материалов в заряде и газодинамических параметров заряда. Весьма придирчиво изучалась документация. Комиссия „допрашивала“ ведущих исполнителей — теоретиков, исследователей, конструкторов. И что впервые было предпринято комиссией: от каждого ведущего исполнителя требовали письменное заверение, что исследования, испытания и расчёты проведены в достаточном объёме, результаты достоверны и гарантируют нормальное срабатывание первого термоядерного заряда.
После такой, прямо скажем, не очень приятной, но, видимо, необходимой процедуры комиссией было принято решение о проведении полигонных испытаний и термоядерного заряда, и модернизированных ядерных. Хотя по модернизированным ядерным зарядам окончательная отработка конструктивных элементов не была ещё закончена, в положительном решении всех незавершённых вопросов никто уже не сомневался“.
Основные цели испытаний термоядерного заряда РДС–6с
В отчёте „Об испытаниях изделия РДС–6с“ от 14 августа 1953 года, подготовленном В.А. Болятко, А.В. Енько, Б.М. Малютовым, И.Н. Гуреевым и М.А. Садовским, цели и задачи испытания были сформулированы следующим образом:
- 1) проверить условия и надёжность срабатывания изделия типа РДС–6с;
- 2) исследовать особенности протекания ядерных реакций в изделии;
- 3) получить количественную характеристику основных форм энергии, выделившейся при взрыве РДС–6с, установить закономерности распространения основных поражающих факторов термоядерного взрыва;
- 4) оценить поражающее действие взрыва РДС–6с на жилые здания, промышленные и фортификационные сооружения, на боевую технику и вооружение.
В соответствии с этим были определены направления научных исследований при испытании РДС–6с.
В случае, если бы термоядерные реакции в изделии не протекали, энергия взрыва изделия РДС–6с составляла бы десятки килотонн, а при нормальном (расчётном) срабатывании всех узлов изделия энергия взрыва РДС–6с ожидалась близкой к 400 кт, и именно на такую величину была рассчитана постановка всех измерений. В то же время эффекты и явления, сопровождающие взрыв с такой энергией, были в сильной степени непредсказуемы и составляли предмет исследования практически для всех участников испытания первого термоядерного изделия.
Подготовка опытного поля и измерительных методик к испытаниям РДС–6с
Испытание первого термоядерного заряда (водородной бомбы) решено было провести в стационарных условиях на стальной башне такой же конструкции и на том же месте, как было в 1949 и 1951 годах (высота башни 40 метров, заряд устанавливался на высоте 30 метров).
 Общий вид центральной части опытного поля перед испытанием первого термоядерного заряда РДС–6с. Семипалатинский испытательный полигон. (Архив Минатома) |
Перед началом строительства сборочного здания, башни и подъёмного устройства радиоактивный грунт после испытаний 1951 года с площадки 1П был удалён на безопасное расстояние, а сооружения были построены на сохранившихся от прежних зданий фундаментах.
У основания металлической башни на расстоянии 5–6 метровбыл сооружён подземный железобетонный бункер для установки разработанной в ИХФ АН СССР аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы.
Хотя большинством специалистов высказывалось сомнение, что мощное железобетонное сооружение со стенами двухметровой толщины сможет обеспечить сохранность регистрирующей аппаратуры и информации, М.А. Садовский и Г.Л. Шнирман оптимистически заявляли о достаточной прочности сооружения и о том, что полученная информация будет иметь огромную ценность в понимании термоядерных процессов.
На опытном поле, на различных расстояниях от эпицентра, были построены, как и во время предыдущих испытаний, жилые и производственные здания, восстановлены шоссейный и железнодорожный мосты. Железнодорожный мост был на этот раз сделан двухпролётным с промежуточной опорой.
Впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны. Всего к испытаниям РДС–6с было подготовлено 500 различных измерительных, регистрирующих и киносъёмочных приборов, установленных в подземных казематах и прочных наземных сооружениях.
В числе этой аппаратуры были измерители времени, протекающего от момента инициирования ВВ до начала ядерной реакции в изделии, измерители потоков гамма-излучения и быстрых нейтронов, записи которых позволяли судить о кинетике термоядерных реакций в изделии, измерители давления и скорости ударной волны, скоростные фотосъёмочные камеры и типовые киноаппараты, измерители потокагамма-квантов, излучаемых радиоактивным облаком взрыва.
Кроме сложных приборов, записывающих различные процессы во времени, как и в предыдущих опытах, использовались простейшие измерители и индикаторы давления ударной волны, доз нейтронного и гамма-излучений, а также световых импульсов. Всего на поле, в сооружениях и боевой технике их было установлено более 2200 штук.
По всему опытному полю, на различных расстояниях от эпицентра, была размещена боевая техника: самолёты, танки, артиллерийские и ракетные установки, корабельные надстройки и морское вооружение. Техника имела различную ориентацию к центру взрыва и размещалась в укрытиях и на открытых площадках.
Для регистрации физических параметров термоядерного взрыва были использованы те же методы, аппаратурные комплексы и приборные сооружения, что и в предыдущих испытаниях, та же киносъёмочная аппаратура для регистрации развития взрыва, та же система дистанционного управления этими приборными комплексами.
Управление подрывом заряда обеспечивалось с того же пульта управления и по тем же кабельным линиям, что и в предыдущих опытах. Благодаря принятым мерам защиты кабельных линий от воздействия электромагнитных наводок ядерного взрыва при испытании РДС–2в 1951 году, отпала необходимость прокладки новых кабельных линий — прежние сохранили свои качественные характеристики. Для использования их в этих испытаниях потребовалось только нарастить несколько десятков метров в районе площадки 1П.
Всего в процессе подготовки к испытаниям на площадке 1П опытного поля было возведено вновь, а также восстановлено 308 различных сооружений, стендов и отдельных конструктивных элементов.
Одновременно для обеспечения испытаний было подготовлено:
- 1300 измерительных, регистрирующих и киносъёмочных приборов;
- 1700 различных индикаторов;
- 16 самолётов;
- 7 танков;
- 17 орудий и миномётов.
Приборные сооружения были возведены по двум взаимно перпендикулярным радиусам — северо-восточному и юго-восточному —на дистанциях от 15 до 10000 метров. Приборные сооружения, расположенные в ближней зоне, на расстояниях до 1200 метров от центра, представляли собой прочные железобетонные казематы, заглублённые в грунт на 3–8 метров. На расстояниях свыше 1200 метров все приборные сооружения были наземными. Для обеспечения оптических наблюдений сооружения были снабжены специальными иллюминаторами, рассчитанными на восприятие больших давлений ударной волны и больших световых импульсов.
Запуск всей аппаратуры, установленной в приборных сооружениях, а также части приборов, установленных непосредственно на поле, производился автоматически, дистанционно, из командного пункта площадки „Н“, расположенного в прочном железобетонном сооружении на расстоянии 10 километров от центра поля. Для этой цели все приборные сооружения были подключены к магистральной кабельной линии автоматики. Перед испытаниями в 1953 году автоматика управления была отремонтирована и частично модернизирована.
Опытные инженерные сооружения: жилые здания, траншеи, окопы, блиндажи, убежища и др. были возведены в различных местах поля, на расстояниях от 250 до 7000 метров от его центра.
Подготовка изделия к испытаниям осуществлялась особой группой работников Министерства среднего машиностроения. Непосредственные наблюдения за взрывом должна была осуществлять опытно-научная часть полигона, в составе которой для этой цели было создано11 научно-испытательных групп: физико-техническая, радиохимическая, биологическая, инженерная, артиллерийская, авиационная, бронетанковая, химическая, военно-морская, дезактивационная служба и радиационная служба.
Авиационно-техническое обеспечение испытаний — измерение давления ударной волны на самолёт, находящийся в воздухе в момент взрыва изделия, забор проб воздуха из радиоактивного облака, аэрофотосъёмка района и др. — осуществлялось специальной лётной частью.
Всего к обеспечению испытаний изделия, после того как были закончены все строительно-монтажные работы, было привлечено:офицеров — 749, сержантов и солдат — 2325, служащих и рабочих — 182.
В том числе прикомандированных из других частей и учреждений: офицеров — 412, сержантов и солдат — 415, служащих и рабочих — 153.
Для оценки состояния аппаратурных комплексов опытного поля и командного пункта, состояния приборных сооружений и кабельных линий, а также для приёмки подопытных сооружений и рассмотрения программы измерений физических параметров взрыва и его воздействия на боевую и гражданскую технику так же, как и в 1951 году, была создана специальная комиссия, которая тщательно изучила все вопросы и дала положительное заключение.
Работе этой комиссии было уделено самое большое внимание. Поэтому в её состав были включены специалисты, принимавшие непосредственное участие в разработке всех измерительных комплексов и систем управления и в испытаниях в 1949 и 1951 гг.
Комиссия в течение трёх недель скрупулёзно провела проверку состояния и работоспособности всех приборов измерительного комплекса, узлов и кабельных линий системы дистанционного управления, состояния приборных сооружений, наличия и состояния техники, зданий, технической и эксплуатационной документации.
Комиссия пришла к выводу, что полигон готов для проведения испытаний первой водородной бомбы, о чём её председатель доложил министру.
К этому времени на базе Первого и Второго главных управлений при Совете Министров СССР было образовано Министерство среднего машиностроения, первым министром был назначен Малышев Вячеслав Александрович, а его заместителем — Ванников Борис Львович.
Институт, пока единственное предприятие по разработке ядерного оружия, вошёл в подчинение Главного управления опытных конструкций(ГУОК), начальником которого был назначен Павлов Николай Иванович, а его заместителем — Шишкин Сергей Николаевич.
Итак, к началу июля 1953 года были изготовлены боевой термоядерный заряд, вся технологическая оснастка, все узлы системы управления подрывом заряда и контрольно-стендовая аппаратура, разработана и проверена эксплуатационная документация, укомплектованы рабочие бригады по подготовке и проведению испытаний.
Было решено: всю технику и технологическую оснастку до г. Семипалатинска отправить первым железнодорожным эшелоном, с ним — основной состав рабочих бригад. Вторым эшелоном с разрывом в неделю отправить сам заряд.
Спецрейсом самолёта была направлена передовая группа для организации встречи эшелонов на станции Жана-Семей в Семипалатинске, их разгрузки и транспортировки грузов до полигона автотранспортом.
Все эти операции — встреча эшелонов, разгрузка и транспортировка оборудования, оснастки и заряда были проведены по аналогии с подобными операциями 1951 года, без каких-либо замечаний и отклонений от разработанного заранее графика — сказывался приобретённый за прошедшие годы опыт.
После доставки оборудования и заряда на полигон и размещения всего хозяйства по рабочим местам на площадках „Н“ и „1П“ все рабочие группы приступили к проверке состояния каждого узла, согласно требованиям конструкторской и эксплуатационной документации, хотя указаний на это от руководства ещё не поступало. Не была известна и дата проведения испытаний. Да и руководства на полигоне ещё не было.
4 августа заместитель начальника полигона по научной работе инженер-полковник Гуреев подготовил доклад о выполнении оперативного плана подготовки и проведения испытаний, утверждённого Советом Министром СССР 11 июля 1953 года.
Вывод из доклада: „Система автоматики, лаборатории, биологические объекты, боевая техника, служба безопасности, личный состав … подготовлены к проведению генеральной репетиции“. Утвердил доклад И.В. Курчатов. Он же организовал перекрёстную проверку готовности измерительных методик к испытаниям, затем лично просмотрел все акты и адресовал их либо для исправлений, либо для ознакомления другим руководителям испытаний.
Приведём выдержку из записки Ю.С. Замятнина „О проверке инструкций и актов готовности индикаторного отделения физико-техническойгруппы“ от 30.07.53 г., подготовленной на имя И.В. Курчатова и М.А. Садовского. „Рассмотренные при проверке акты свидетельствуют о готовности индикаторного отделения к проведению измерений“. И.В. Курчатов тут же адресует этот документ А.В. Завенягину и Н.Н. Семёнову.
При проведении таких экспертиз не существовало авторитетов. В частности, при проверке готовности протонного монохроматора к испытаниям комиссия во главе с Б.С. Джелеповым (О.И. Лейпунский, А.А. Наумов) сделала серьёзные замечания, хотя у истоков этого метода стояли И.Е. Тамм, Я.Б. Зельдович, А.С. Компанеец, О.И. Лейпунский (критике подверглось отсутствие дублирующих каналов, сильное влияние электрических помех, наличие фона мешающих излучений, соизмеримого с эффектом, и т. д.).
Руководители испытаний исключительно важное значение придавали обеспечению безопасности населения, проживающего в окружающей полигон местности. Энергия взрыва „водородной“ бомбы ожидалась в десятки раз больше, чем все предыдущие взрывы, да ещё в самом опасном для населения варианте — при наземном взрыве.
Правительством СССР были приняты чрезвычайные меры. Вокруг опытного поля была установлена запретная зона радиусом 45–60 километров, из которой все жители были заранее выселены. Всё население, проживающее в юго-восточном направлении от опытного поля в радиусе 120 километров, было за неделю до испытания эвакуировано, а в радиусе 250 километров было сселено (объединено) в несколько крупных групп с выделением автотранспорта в таком количестве, чтобы при необходимости вывезти всех людей за один рейс в безопасную зону. Всего из опасной зоны было эвакуировано 2250 человек и 44068 голов скота, а в зоне сселения находилось около тринадцати тысяч человек. Из селения Абай жители были эвакуированы на 9 дней (9 человек из с. Абай не вывозилось), из колхоза имени Тельмана — на 19 дней. Жители селений Семёновка, Ерназар, Кайнар, Шадринск не эвакуировались.
Взрыв можно было проводить только при определённых метеорологических условиях, при направлении ветра в узком заданном секторе углов. В этом секторе отсутствуют крупные населённые пункты и плотность населения наименьшая. (На основании положительных данных, полученных дозиметрической службой полигона после взрыва, всё население вскоре было возвращено на свои постоянные места.)
6 августа 1953 года в Москве открылась внеочередная сессия Верховного Совета СССР, на которой выступил Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков. В своём докладе о текущем моменте он, в частности, сказал: „Американские империалисты пугают нас сверхоружием — водородной бомбой. Но нас не следует пугать, мы не только знаем секрет водородной бомбы, но и создали её“.
А в это время на полигоне шли полным ходом подготовительные работы к генеральной репетиции.
Испытания… «Получилось». Россия делает сама
Подготовка и проведение генеральной репетиции по опыту 1951 года осуществлялись по боевому расписанию с небольшими изменениями.
 Взрыв первого советского термоядерного заряда РДС–6с. Семипалатинский испытательный полигон 12 августа 1953 года. (АрхивМинатома) |
Подготовка и задействование измерительного комплекса, испытываемой техники и подопытных животных осуществлялись по боевому расписанию без каких-либоусловностей.
Проверка системы автоматики управления подрывом заряда, окончательная сборка заряда и подъём его на башню были проведены в ночь на 8 августа 1953 года.
Момент „Ч“ генеральной репетиции осуществлен 8 августа 1953 г. в 7:00 по местному времени.
Последующий анализ результатов генеральной репетиции показал хорошую отработанность эксплуатационной документации, хорошую технологичность оснастки, обеспечивающую качество и удобство сборки заряда, безотказную работу всех узлов системы автоматики управления подрывом заряда, высокое мастерство личного состава, выполнявшего операции по подготовке и проведению испытаний.
Все службы и аппаратурные комплексы опытного поля сработали без замечаний.
Государственная комиссия под председательством Курчатова Игоря Васильевича, проведя анализ результатов генеральной репетиции и доложив свои соображения правительству, приняла решение провести испытания первой водородной бомбы 12 августа 1953 года в 7 часов 30 минут местного времени.
Операцию по сборке заряда проводили Н.Л. Духов, Д.А. Фишман, Н.А. Терлецкий под руководством Ю.Б. Харитона и в присутствии И.В. Курчатова.
Подготовка системы автоматики осуществлялась В.И. Жучихиным и Г.А. Цырковым. В работах принимали участие А.Д. Захаренков и Е.А. Негин.
Снаряжение заряда капсюлями-детонаторами после подъёма его на башню осуществлялось А.Д. Захаренковым и Г.П. Ломинским под руководством К.И. Щёлкина и в присутствии А.П. Завенягина.
В качестве оператора на пульте управления автоматикой подрыва работал А.Д. Захаренков.
Руководил работой операторов автоматики поля и пульта управления К.И. Щёлкин.
  Взрыв первого советского термоядерного заряда (два момента времени). Семипалатинский испытательный полигон, 12 августа 1953 года. (АрхивМинатома) |
Радиационная обстановка после испытания первой термоядерной бомбы в 1953 году
Если посмотреть карту-схему, где приведены наиболее значимые следы радиоактивного загрязнения за пределами территории полигона, то следует признать, что масштабы радиоактивного загрязнения после термоядерного взрыва в 1953 году были максимальными по сравнению с теми, которые наблюдались после взрывов в предшествующие и последующие годы. Опишем кратко, что же делалось для снижения ожидаемых неблагоприятных последствий облучения населения районов, прилегающих к полигону.
А.Д. Сахаров в своих „Воспоминаниях“ писал, что группа специалистов с его участием оценила, на каком расстоянии от точки взрыва испытуемого заряда можно было ожидать дозы излучения до полного распада радиоактивных веществ на открытой местности, равные 200 рентген. Эта величина была выбрана в качестве предельной. Специалисты полагали, что никто в зоне выпадения радиоактивных осадков не получит полной дозы излучения, если население эвакуировать на определённое время в безопасную зону.
А.Д. Сахаров писал: „Всех людей, проживающих в подветренном секторе, ближе определённой нами границы 200 рентген, мы считали совершенно необходимым эвакуировать! Это были десятки тысяч людей! С этим выводом мы пошли к начальству — Курчатову, Малышеву и военному руководителю испытаний Маршалу Василевскому“.
Чтобы не переходить к воздушному варианту сбрасывания изделия с самолёта, что требовало длительной отсрочки испытаний, было решено осуществить эвакуацию населения из угрожаемого сектора. Для этого было выделено 700 армейских грузовиков и большое количество личного состава.
В официальных отчётах о последствиях ядерного испытания 12 августа 1953 г. указывается, что жители были выселены из всей зоны возможного сектора формирования радиоактивного следа на расстоянии до 120 километров от центра опытного поля, где доза на местности могла превысить 200 Р, и размещены в девяти населённых пунктах, расположенных на расстояниях 200–250 километров от центра взрыва.
По результатам измерений уровня радиации в течение первых пяти дней после взрыва была составлена схема, в которой приведены изменения со временем зон с границами уровней радиации в 50 и 0,1 Р/ч.
Уровни радиации в облаке взрыва приведены в табл. 5.3.
| Высота полёта, метров | Время измерения от момента взрыва | Максимальный уровень радиации в облаке, Р/ч |
|---|---|---|
| 3000 | 0 ч 20 мин | 5,4 |
| 4000–5000 | 1 ч 04 мин | 9,0 |
| 8000 | 0 ч 33 мин | 360,0 |
| 10000 | 0 ч 45 мин | 144,0 |
Анализ проб воздуха, взятых командой разведки поля через 30 минут после взрыва, показал также, что радиоактивных газов в воздухе не имеется, а концентрация радиоактивных веществ, находившихся в воздухе во взвешенном состоянии (пыль), не превышает 4,5×10 –9 Ки/л.
Для оперативного получения данных о направлении радиоактивного следа была организована воздушная радиационная разведка, которая проводилась с помощью четырёх самолётов ЛИ–2, два самолёта проводили разведку следа путём его пересечения, а другие два определяли правую и левую границу следа. Результаты немедленно докладывались по радио на командный пункт. Для измерений на глубину до 100 километров была направлена дозиметрическая команда на двух автомобилях ГАЗ–67 с радиостанцией Р–104.
Метеорологическая обстановка по данным шаропилотных измерений в день испытаний характеризовалась следующими усреднёнными по высоте параметрами: центр поля — направление ветра φ = 324 градуса, скорость ветра ν = 60 км/ч; 60 километров северо-восточнее поля —φ = 314 градусов, ν = 62 км/ч; 200 километров юго-восточнее поля — φ = 319 градусов, ν = 63 км/ч. Погода района была обусловлена тыловой частью циклона. В течение дня было малооблачно, после 8 часов увеличение облачности до 4–7 баллов.
После взрыва формирование следа происходило в прогнозируемом секторе в юго-восточном направлении от опытного поля. Длина полосы радиоактивного загрязнения с суммарной дозой более одного рентгена по результатам воздушной радиационной разведки составляла примерно 400 километров от границы полигона. Ширина полосы достигала 40 километров на границе запретной зоны и 55–60 километров,т. е. максимума, — на расстоянии 140–150 километров. По уровню 0,01 Р/ч на „Д“ + 1 день длина следа составила 480 километров и ширина —55–60 километров. Уровни радиации по оси следа на „Ч“ + 3 часа приведены в табл. 5.4. Отчёт о радиоактивной зараженности местности по следу облака при испытании РДС–6с И.В. Курчатову был представлен И.В. Ремезовым, Б.С. Джелеповым и В.Я. Бутковым 22 августа 1953 г.
В селе Абай (Кара-Аул) из 2200 жителей к моменту подхода фронта радиоактивного загрязнения не успели эвакуировать 191 человека, и за период сборов и выхода в безопасную зону они могли получить дозу облучения 10–40 Р.
В населённых пунктах перед вселением жителей проводилась радиационная разведка. 21 августа было начато и 22 августа (на десятый день после взрыва) полностью закончено вселение жителей села Абай (Кара-Аул). В 9:00 21 августа в Кара-Ауле мощность дозы гамма-излучениясоставляла 30 мР/ч.
| Расстояние, км | Мощность дозы, Р/ч |
|---|---|
| 11 | 33,3 |
| 30 | 160,0 |
| 70 | 214,0 |
| 100 | 84,0 |
| 150 | 21,7 |
| 200 | 15,0 |
| 300 | 5,0 |
27 августа (на 16-й день после взрыва) было осуществлено вселение жителей в село Саржал и в населённые пункты, расположенные в его окрестностях (колхоз им. Тельмана). В это время в районе села Саржал мощность дозы гамма-излучения составляла 15–37 мР/ч. В зимовье Таилан мощность дозы гамма-излучения в 7:00 17 августа была 450 мР/ч, а в 18:00 21 августа — 200 мР/ч.
В 1953 году, спустя некоторое время после взрыва, военными врачами было проведено обследование населения в отдельных пунктах, случаев возникновения лучевой болезни обнаружено не было. Систематическое изучение радиационной обстановки и состояния здоровья населения за пределами полигона началось лишь с 1957 года.
Определённый интерес представляет отношение к приведённым выше дозам облучения, называвшимся в то время „допустимыми“ дозами. Непосредственный участник ядерных испытаний, профессор, полковник В.А. Логачёв отмечает, что в начале 50-х годов допустимой дозой облучения как для персонала, так и для населения считалась доза в 50 Р. Такая доза, как видно из приведённых данных, превышалась редко, разве что только во время первого ядерного испытания 29 августа 1949 года.
На 14 января 1957 года для лиц, находившихся в зоне радиоактивного загрязнения, „предельно допустимая доза внешнего облучения за год“ равнялась 15,7 Р. Понятно, что допустимые дозы с течением времени и по мере накопления знаний уменьшались, и сейчас для ограниченной части населения (категория Б) равны 0,5 бэр в год.
Следует отметить, что радиоактивное загрязнение окружающей среды после испытаний первого термоядерного заряда распространилось на значительную часть территории бывшего СССР. Радиоактивное облако примерно через три часа после взрыва по внешнему виду превратилось в перисто-слоистую облачность шириной (поперёк направления ветра) 100 километров и длиной (по ветру) до 200 километров. При этом верхняя кромка облака достигала высоты 15 километров, а нижняя находилась на высоте около 6 километров. Облако взрыва, пройдя район озера Зайсан, разделилось на три части. Первая часть, расположенная на высоте 9–15 километров и влекомая высотным ветром, стала двигаться вдоль южной границы бывшего СССР в направлении города Кызыл (Республика Тува) и озера Байкал. Максимальное значение дозы внешнего облучения на местности, зафиксированное в этом направлении, не превышало 0,5 Р. Средняя часть облака на высоте 6–9 километров„пошла“ по большому кругу в направлении Томска, Омска, Шадринска (Южный Урал), Аральского моря, Намангана. Максимальная доза по этому следу не превышала 0,2 Р. И, наконец, третья, самая нижняя часть облака „пошла“ по малому кругу вокруг Алтайского края в направлении Омска, Караганды и т. д. Максимальная доза в данном случае не превышала 0,01 Р.
К концу 50-х годов сложилось достаточно полное и объективное представление о воздействии основных радиационных факторов на состояние здоровья населения, проживающего на прилегающих к полигону территориях. Такими факторами являлись:
- загрязнённый воздух в период формирования следа и в последующее время при естественном и искусственном пылеобразовании;
- загрязнённая почва, обуславливающая формирование внешнего гамма- и бета-излучения;
- продукты питания, произведённые на загрязнённой радионуклидами почве, и загрязнённая вода.
Перечисленные основные факторы радиационного воздействия определяют внешнее облучение гамма- и бета-излучением и поступление в организм человека радионуклидов, обуславливающих внутреннее облучение различных органов и тканей. В результате комплексного внешнего и внутреннего облучения организм человека подвергается суммарному радиационному воздействию, последствия которого определяются величиной эффективной дозы.
Общие итоги исследований при испытании РДС–6с
В предварительном отчёте по испытаниям изделия РДС–6с, представленном руководством испытаний И.В. Курчатовым, Ю.Б. Харитоном, К.И. Щёлкиным, И.Е. Таммом, А.Д. Сахаровым, М.А. Лаврентьевым, Я.Б. Зельдовичем, В.С. Комельковым, В.А. Давиденко, Е.М. Забабахиным, М.А. Садовским, В.А. Болятко, Д.И. Блохинцевым, И.Е. Стариком, М.В. Келдышем, Н.Н. Боголюбовым, а также в предварительном докладе руководства полигона за подписью А.В. Енько, Б.М. Малютова и И.Н. Гуреева на основании результатов, полученных непосредственно после опыта, сообщается о том, что по совокупности измерений, выполненных различными независимыми друг от друга способами (путём сравнения давления ударной волны, интенсивности гамма-излучения и размеров огненного шара), энерговыделению соответствует полный тротиловыиэквивалент (ТЭ) РДС–6с в 350–400 кт.
В последующем сводном отчёте по испытанию РДС–6с за подписью И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, Я.Б. Зельдовича, Е.И. Забабахина и В.С. Комелькова (исполнитель Я.Б. Зельдович) с учётом обработки всей полученной в опыте информации (в том числе по радиохимическим исследованиям продуктов взрыва) полный ТЭ РДС–6с определён в 400±50 кт и сделан вывод о том, что „испытания РДС–6с полностью подтвердили работоспособность физических и конструктивных принципов, заложенных в разработку этого типа термоядерного заряда, а также методов его расчёта“.
Так завершилась разработка первой водородной бомбы в нашей стране и успешное её испытание. В отличие от американцев было создано не термоядерное устройство, а боевой заряд, который без каких-либо доработок мог размещаться в баллистическом корпусе авиабомбы для реактивного бомбардировщика ТУ–16.
Главный идеолог первой водородной бомбы кандидат физико-математических наук Сахаров Андрей Дмитриевич сразу стал академиком. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии. Звание Героя Социалистического Труда во второй раз было присвоено Ю.Б. Харитону, К.И. Щёлкину, Я.Б. Зельдовичу и Н.Л. Духову. Многие конструкторы, исследователи и производственники были награждены орденами и медалями.
От зарождения идеи до изготовления термоядерной бомбы РДС–37 — будущей оснооы термоядерных зарядов в СССР
Испытанная 22 ноября 1955 года водородная бомба была основана на принципиально новой физической схеме. История её создания так же, как и история создания водородной бомбы в США, была полна драматизма. Новый физический принцип родился в СССР в процессе интенсивных работ по другим направлениям конструирования водородного оружия, которым отдавался приоритет. Если ретроспективно взглянуть на историю разработки, можно увидеть, что некоторые общие идеи, развитие которых в конечном счёте привело к формулировке нового принципа, были высказаны в СССР в конце 1948 года. Они были в определённом смысле шагом вперёд по сравнению с информацией, относящейся к американским проектам водородной бомбы с детонацией дейтерия, полученной к этому времени по разведывательным каналам. Но тогда эти идеи не получили должного развития. Следующий этап плановых работ по созданию двухступенчатой конструкции водородной бомбы относится к 1952–1953 гг. Но окончательное осознание и формулировка основных положений нового принципа произошли в СССР только в 1954 году. С этого момента началась интенсивная расчётно-теоретическая проработка физической схемы новой водородной бомбы и исследование характеристик протекающих в ней физических процессов. Но эта работа весь 1954 год проводилась параллельно с попытками создания форсированного варианта водородной бомбы „образца“ 1953 года большей мощности.
24 декабря 1954 года состоялся научно-технический совет КБ–11 под председательством И.В. Курчатова. В работе совета приняли участие министр среднего машиностроения В.А. Малышев, руководство КБ–11, научные работники и конструкторы-разработчики атомных зарядов. На заседании обсуждалась проблема создания водородной бомбы большой мощности на новом принципе.
И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон отметили в своих докладах, что этот принцип открывает большие возможности в разработке мощных водородных бомб и что необходимо быстрее использовать эти возможности.
Ю.Б. Харитон выступил с предложением о проведении в 1955 году модельного опыта натурной конструкции новой бомбы.
В итоге обсуждения совет принял согласованное с министром В.А. Малышевым решение:
1. Руководству КБ–11 представить план работ по проблеме создания новой бомбы с пояснительной запиской в Министерство среднего машиностроения.
2. Разрешить до утверждения плана работ по этой проблеме разработку бомбы — устройства и проведение его испытания на полигоне № 2в 1955 году.
В течение первого полугодия 1955 года велись исследовательские и конструкторские разработки опытного образца бомбы-устройства,получившего индекс РДС–37, для проверки нового принципа.
Техническое задание на изготовление водородной бомбы новой конструкции было выдано 1 февраля 1955 года.
Для проверки хода работ по плану разработки новой физической схемы заряда в КБ–11 прибыли А.П. Завенягин, руководители Главного управления П.М. Зернов, Н.И. Павлов. На состоявшемся 27 мая 1955 года совещании был рассмотрен вопрос о состоянии работ по разработкебомбы-устройства РДС–37. Сообщение по этому вопросу сделал Я.Б. Зельдович. Он изложил материал о протекании в устройстве РДС–37термоядерной реакции. Последовал вопрос Завенягина: „Имеются ли ещё какие-либо сомнения?“ — „Если говорить о мощности с точностью лишь ±40%, то сомнений нет“, — ответил Зельдович.
По результатам проведённого совещания Зернов, Павлов, Харитон, Негин. Духов, Бессарабенко подготовили решение, которое было утверждено Завенягиным 31 мая 1955 года.
В нём, в частности, было записано: „Одобрить представленную КБ–11 схему экспериментального устройства РДС–37.“
Экспериментальные работы (газодинамические опыты) по отработке элементов бомбы и соответствующие конструктивные изменения проводились вплоть до конца сентября 1955 года.
Подготовка полигона и измерительных методик к испытаниям
Совет Министров СССР в специальном постановлении возложил проведение лётных испытаний бомбы-устройства РДС–37 на КБ–11, ВВС МОи полигон № 2 МО. Главнокомандующий ВВС СССР приказами от 12 и 13 октября 1955 года выполнение этого постановления поручил воинской части 93851 и определил в связи с этим её основные задачи:
- прицельное бомбометание бомбы РДС–37 с самолёта;
- контроль работы автоматики бомбы на траектории бомбометания;
- охрану самолёта-носителя истребителями МИГ–17;
- забор проб продуктов взрыва на самолётах ИЛ–28, наблюдение за движением облака;
- управление полётами и оборудованием командных пунктов.
Общее руководство авиационным обеспечением испытаний было возложено на генерал-майора В.А. Чернореза.
Для проведения лётных испытаний бомбы-устройства РДС–37 в МСМ была разработана соответствующая программа. В качествесамолёта-носителя был определён самолёт ТУ–16.
В связи с ожидаемой большой мощностью взрыва этой бомбы была сделана предварительная оценка возможного его воздействияна самолёт-носитель.
Для обеспечения безопасности экипажа в ОКБ–167 МАП с 25 октября по 16 ноября 1955 года была проведена специальная подготовка самолёта к испытаниям. С нижней части поверхности фюзеляжа, оперения и крыльев был смыт лак. Все имеющие тёмный цвет поверхности были покрыты специальной белой краской. Была также произведена замена ряда уплотнений.
С целью увеличения дистанции от места взрыва до самолёта-носителя и уменьшения светового импульса до допустимого уровня руководством было принято решение оборудовать бомбу парашютом типа ПГ–4083, разработанным для бомбы РДС–6с НИИ парашютно-десантногоснаряжения. Заказ на парашюты был выдан МСМ 17 октября 1955 года, а 28 октября 1955 года они были доставлены на полигон № 2 МО.
Бомба была подготовлена сотрудниками КБ–11 и передана для подвески к самолёту в 6 часов 45 минут 20 ноября 1955 года. Подготовка к вылету самолёта была закончена в 8 часов 40 минут. Самолёт-носитель ТУ–16 вылетел с аэродрома г. Семипалатинска в 9 часов 30 минут. Но из-заотсутствия визуальной видимости цели и отказа радиолокационного бомбардировочного прицела бомбометание не состоялось. Ровно в 12 часовсамолёт-носитель произвёл посадку на аэродром. Бомба была передана сборочной бригаде КБ–11.
Комиссия под председательством помощника Главнокомандующего ВВС генерал-майора авиации Н.И. Сажина установила причину отказа радиолокационного прицела. Дефект был устранён в лабораторных условиях представителем завода № 283 МАП.
Создание РДС–37 открывает дорогу к современному термоядерному оружию
Испытание бомбы было проведено 22 ноября 1955 года. В 6 часов 55 минут бомба была подвешена к самолёту. Самолет вылетел в 8 часов 34 минуты.
В 9 часов 47 минут было произведено прицельное бомбометание с высоты 12 километров и при скорости самолёта 985 км/ч. Бомба была сброшена над опытной площадкой П5. Взрыв бомбы произошёл на высоте 1550 метров.
  Взрыв первой советской двухступенчатой бомбы РДС–37 (два момента времени). Семипалатинский испытательный полигон, 22 ноября 1955 года. (АрхивМинатома) |
В момент взрыва самолёт находился от места взрыва на расстоянии 15 километров. На нём производились измерения светового импульса, температуры нагрева дюралевой обшивки и защитного покрытия.
Воздействие светового излучения на открытые части тела штурмана-бомбардира в кабине самолёта было, по его словам, „сильнее, чем в самую жаркую солнечную погоду“.
После испытательного полёта и бомбометания самолёт был подвергнут тщательному осмотру. Никаких следов теплового воздействияна самолёте-носителе не было обнаружено.
Приведём описание взрыва из отчёта, подготовленного сотрудниками Семипалатинского полигона.
„Исключительно большая мощность взрыва, а также обусловленные ею значительные размеры светящейся области и длительное свечение позволили отчётливо пронаблюдать весь процесс развития светящейся области от небольшого шара до сферы значительных размеров, деформацию её ударной волной, отражённой от поверхности земли, и образование больших областей конденсации содержащихся в воздухе водяных паров. Из-за облачности в районе испытаний, к сожалению, не удалось полностью пронаблюдать развитие облака взрыва, которое представляло собой исключительно грандиозную картину даже в сравнении с облаком такого мощного взрыва, как взрыв бомбы РДС–6св 1953 году. Наблюдатели, находившиеся в 35 километрах от эпицентра, в специальных очках, лёжа на поверхности грунта, в момент вспышки ощутили сильный приток тепла, а при подходе ударной волны — двукратный сильный и резкий звук, напоминающий грозовой разряд, а также давление на уши.
Из всего облака взрыва длительное время была видна его нижняя часть — пылевой столб и клубы пыли. Масштабы этого явления также не идут ни в какое сравнение со взрывами ранее испытанных зарядов. Пыль, поднявшаяся над опытным полем до естественных облаков, перемешавшись с ними, образовала свинцово-чёрную тучу. Гонимая ветром, туча медленно надвигалась на лабораторный корпус и жилой городок полигона. Если учесть, что раньше (примерно через 3 минуты после взрыва) здесь прошла ударная волна, вызвавшая многочисленные разрушения остекления, дверей, рам, лёгких перегородок и т. п. и сопровождавшаяся сильным многократным звуком, становится совершенно очевидным, что даже для неискушённого наблюдателя одна лишь внешняя картина могла служить наиболее ярким свидетельством исключительно большой мощности взрыва бомбы РДС–37.
Произведённый впервые взрыв бомбы колоссальной мощности позволил получить важные экспериментальные данные“.
По данным визуальных наблюдений экипажей самолётов нижняя граница облака в конце его подъёма располагалась на высоте1200–1400 метров.
Сводные материалы по результатам испытания изделия РДС–37 были подписаны И.В. Курчатовым, Ю.Б. Харитоном, Н.Н. Семёновым, А.Д. Сахаровым, Я.Б. Зельдовичем, М.А. Садовским, А.В. Енько, Б.М. Малютовым, И.Н. Гуреевым.
Постановлением Совета Министров СССР по вопросам работы конструкции атомных бомб и определения их мощности в 1955 году была образована комиссия, в состав которой вошли И.В. Курчатов (председатель), Ю.Б. Харитон, Б.Г. Музруков, Н.И. Павлов, Е.А. Негин, В.А. Давиденко и другие.
На заседание этой комиссии по определению мощности взрыва бомбы-устройства РДС–37 были приглашены: В.А. Болятко, А.В. Енько, Б.М. Малютов, Б.А. Олисов, О.И. Лейпунский, В.Ю. Гаврилов, М.А. Садовский, Г.И. Бенецкий, И.Н. Гуреев, Н.Н. Семёнов. О результатах определения тротилового эквивалента водородной бомбы РДС–37 основной доклад сделал инженер-полковник И.Н. Гуреев. ЭнерговыделениеРДС–37 составило 1,6 Мт ТЭ.
Генерал-лейтенант В.А. Болятко доложил о действии взрыва на боевую технику и подопытных животных.
Рассмотрев результаты испытания экспериментальной бомбы РДС–37 на заседании 24 ноября 1955 года, комиссия отметила, что:
- успешно испытана конструкция водородной бомбы, основанная на новом принципе;
- необходимо дальнейшее детальное исследование процессов, протекающих при взрыве бомбы этого типа;
- дальнейшую разработку водородных бомб следует проводить на основе широкого использования принципов, положенных в основу бомбыРДС–37.
Радиационная обстановка вокруг семипалатинского полигона после испытания термоядерной бомбы РДС–37
Экспериментальные данные об уровнях радиации на радиоактивном следе и дозах излучения после испытания РДС–37 приведены в табл. 5.5.
| Место измерения уровней радиации | Расстояние от опытного поля, км | Время измерения после взрыва, ч | Мощность дозы излучения, мР/ч | Доза до полного распада РВ на открытой местности, Р |
|---|---|---|---|---|
| 8 км севернее д. Мостки | 95 | 3 | 11 | 0,13 |
| д. Мостки | 90 | 3 | 12 | 0,17 |
| 10 км ю.-з. д. Шадруха | 155 | 3 | 10 | 0,13 |
| 4 км западнее д. Мещанский | 155 | 3 | 10 | 0,13 |
| д. Угловское | 178 | 3 | 18 | 0,23 |
| 19 км ю.-в. д. Лаптев Лог | 178 | 3 | 18 | 0,23 |
| 7 км южнее д. Лебяжье | 247 | 3 | 16 | 0,19 |
| 12 км южнее д. Локоть | 247 | 3 | 17 | 0,19 |
| 15 км с.-в. д. Егорьевка | 272 | 3 | 10 | 0,12 |
| 30 км восточнее п. Веселоярское | 272 | 3 | 10 | 0,12 |
Из этих данных следует, что доза внешнего гамма-излучения за пределами территории полигона менее 0,5 Р, и поэтому можно фактически утверждать, что не было облучения населения с превышением дозовых пределов.
После прохождения ударной (звуковой) волны население режимных зон и проживающее в пункте „М“ (городок испытателей) было полностью укрыто в помещениях до выяснения радиационной обстановки.
В соответствии с планом через 30 минут после взрыва была выслана радиационная разведка следа радиоактивного облака на трёхсамолётах Як–12 и через 1 час 30 минут — на самолёте Ли–2. В результате радиационной разведки было установлено, что уровни радиации в воздухе на оси следа облака (азимут 70°, высота 50 метров) не превышали:
- на рубеже 25 километров от П5 (через час после взрыва) — 0,02 Р/ч;
- на рубеже 50 километров от П5 (через полтора часа после взрыва) — показаний нет;
- на рубеже 200 километров от П5 через три часа после взрыва — 0,008 Р/ч при ширине следа 70 километров.
Испытание РДС–37 привело к ряду трагических событий. Как упоминалось раньше, перед испытанием предусматривались все необходимые меры по обеспечению безопасности населения, которые при строгом их выполнении исключили бы эти случаи. Анализ происшествий показывает, что несчастные случаи являлись, к сожалению, следствием нарушения инструкций самими пострадавшими или местной администрацией.
Так, в результате обвала потолка в жилом помещении в ауле Малые Акжары, из которого не вышла семья, погибла девочка в возрасте 3 лет.
В момент обвала землянки в выжидательном районе № 1, расположенном в 36 километрах от центра взрыва, были засыпаны землей шесть солдат батальона охраны, из которых один умер от удушья, остальные получили лёгкие ушибы.
Осколками стёкол и обломками строений были нанесены ранения и ушибы 26 жителям из населённого пункта Майское, совхоза Ворошиловградскии, колхозов Сталин-Туы и Семиярское и 16 жителям г. Семипалатинска. Сразу после получения данных о наличии случаев ранения в населённые пункты были направлены на самолётах, вертолётах и автомашинах врачи с медикаментами. Пострадавшим немедленно была оказана медицинская помощь. Все они выздоровели.
В селе Семиярское вследствие обвала потолков в специально оборудованных помещениях одна женщина получила закрытый перелом бедра и две получили ушибы позвоночника. Пострадавшие были доставлены на самолёте полигона в областную больницу в город Павлодар для стационарного лечения. В городе Семипалатинске три человека получили сотрясения мозга. Все больные были госпитализированы и через некоторое время выздоровели.
В общей сложности различные повреждения строений отмечались в 59 населённых пунктах (в частности, площадь разрушенного остекления составляла 28615 квадратных метров).
 В. И. Алфёров |  Л. В. Альтшулер |  В. Ф. Гречишников |
|---|---|---|
 В. А. Давиденко |  Н. А. Дмитриев |  Н. Л. Духов |
 Е. И. Забабахин |  Я. Б. Зельдович |  Л. Д. Ландау |
 Ю. А. Романов |  А. Д. Сахаров |  И. Е. Тамм |
 Д. М. Тарасов |  Ю. А. Трутнев |  Д. А. Фишман |
 Г. Н. Флёров |  Ю. Б. Харитон |  В. А. Цукерман |