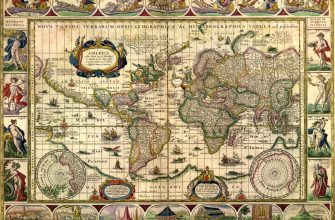Древнейшая мебель — это, по существу, неподвижные устройства, являвшиеся частью самого жилища, будь то пещера, хижина или изба, и выполнявшие ту же роль, что современные мебельные предметы. Однако начинать рассказ об истории мебели принято с того периода, когда появляются отдельно стоящие передвижные предметы жилого пространства. И это вполне закономерно, если следовать этимологии, то есть прямому содержанию слова «мебель», связанному с понятием движения.
Древнейшая мебель — это, по существу, неподвижные устройства, являвшиеся частью самого жилища, будь то пещера, хижина или изба, и выполнявшие ту же роль, что современные мебельные предметы. Однако начинать рассказ об истории мебели принято с того периода, когда появляются отдельно стоящие передвижные предметы жилого пространства. И это вполне закономерно, если следовать этимологии, то есть прямому содержанию слова «мебель», связанному с понятием движения.
В отношении русской мебели придется поступиться этим правилом и начать с предыстории — с того времени, когда мебель была еще не передвижной, а составляла неотъемлемую часть жилой постройки, то есть, попросту говоря, была встроенной. На Руси этот период затянулся вплоть до XVI столетия.
Впрочем, и само слово «мебель» Русь получила не непосредственно от римской античности, оставившей в европейской бытовой культуре этот след своих завоеваний, а как бы «из вторых рук». Оно пришло к нам из Западной Европы не ранее XYII века, вместе с появлением и постепенным усложнением характера меблировки отдельно стоящими, передвижными предметами. Эта неукорененность самого принципа меблировки и термина «мебель» ярко отразилась в народной языковой культуре. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля приведены зафиксированные в середине XIX века варианты народного произношения слова «мебель» — «небель» и даже «небыль».
Вследствие глубокой самобытности и отличительных особенностей культуры древнерусского жилища необходимо сразу отказаться от аналогий с западноевропейской традицией в рассмотрении мебели Древней Руси. Попытки ряда исследователей представить дело так, что столярно-мебельное искусство на Руси было развито очень высоко и при этом имело характер, сходный с западноевропейским, не выдерживают проверки фактами.
Действительно, трудно представить, что в богатой лесом стране, жители которой издревле владели доходившим до виртуозности мастерством обработки древесины, в стране, где из дерева умели делать все — мосты и дороги, дома и оборонительные сооружения, механизмы и станки, посуду и утварь, замечательные произведения декоративно-прикладного искусства, — не обнаружено следов существования в древности столярно-мебельной культуры европейского типа. Этот вывод на первый взгляд может показаться чудовищно несообразным. Но штудирование имеющихся трудов по теме мебели Древней Руси и параллельное исследование всех доступных источников информации — археологических свидетельств, иконографических и литературных памятников, сопоставление и проверка фактов убеждают нас в том, что мебельное дело в Древней Руси не было ни лучше, ни хуже западноевропейского — оно было совсем другим.
Совершенно не убедительными представляются нам попытки воссоздания форм древнерусской мебели на основании косвенных источников и по аналогии с западноевропейской мебелью, предпринятые в ряде работ. Беспочвенной кажется и экстраполяция в глубь веков форм отдельных бытовых предметов, — например, форм крестьянских солонок XIX века как форм древнерусских стульев. Чем же доказывается существование на Руси этих мифических стульев? Оказывается, тем, что слово «стул» зафиксировано в письменных памятниках XVI века. Однако словарь Даля, давая полное толкование слова «стул», развеивает заблуждение относительно распространения на Руси бытовых стульев. Действительно, слово «стул» встречается в древнерусской литературе, но это отнюдь не доказывает существования в обиходе стульев как столярных изделий в виде сидений со спинками. Даль, кроме привычного сейчас для нас значения, приводит и другие — сиденье без прислона (то есть без спинки) и «обрубок бревна, чурбан, кряж; стоячая колода для прочной подставы под что-либо; стулья под деревянное строение: короткие столбы, сваи вкопанные, на них кладется первый венец; такие же стулья ставятся под переводины. Изба на стульях. Под наковальней — стул; ножницы для резки железа, большие тиски утверждаются в стуле, в чурбане… мясничий стул, на котором рубят говядину».
В «Домострое» — известном памятнике литературы XVI века — слово «стул» употреблено один раз, и из контекста следует, что имеется в виду именно обрубок бревна, чурбан, ибо в этом месте свода жизненных наставлений речь идет о том, как доить корову с соблюдением правил гигиены: «…обмыв вымя… полотенцем чистым протереть… и стул был бы чист, и корову на мягком сене держать, и корм класть, какой нашелся».
Отсутствие в быту стула в качестве передвижного сиденья со спинкой отражало идеологию, сформировавшуюся в период местничества, когда только одна персона — великий князь мог сидеть отдельно на особом седалище, в то время как все прочие довольствовались сидением на общих лавках. Понимание жизненного уклада того времени чрезвычайно важно — он определяет на несколько столетий характер развития мебельного дела Древней Руси.
В отличие от западноевропейской средневековой традиции, следуя которой стол на козлах разбирался после трапезы, на Руси стол имел постоянное место и первоначально был, по-видимому, стационарным. Он имел опоры в виде столбов, врытых в землю или врубленных в пол, если жилище было на подклете — нижнем этаже хозяйственного назначения. Словами «стол» и «престол» обозначалось на Руси княжение, отсюда — «столица», местопребывание власти, главный город. Тем же словом «стол», или «престол», обозначался и тип мебели вроде трона без спинки, который на старинных изображениях весьма похож на невысокий стол. Тот же корень прослеживается в слове «столяр». Дом с полным внутренним обустройством рубили плотники. Стол как отдельно стоящий, передвижной предмет мебельного оборудования, а также престол как торжественное седалище изготавливали столяры. Однако столярное дело как самостоятельное ремесло оформилось на Руси довольно поздно. Сами мастера даже в XVIII веке порой не склонны были разделять понятия «столяр» и «плотник», по-видимому, в силу почтенности плотницкого ремесла, доходившего до уровня высочайшего мастерства.
Ключ к пониманию проблемы своеобразия древнерусской мебели обнаружился в труде Ю. П. Спегальского «Жилище Северо-Западной Руси IX—XIII вв.», недостаточно оцененном исследователями древнерусской мебели на том основании, что самой мебели в работе уделено всего несколько строк. Действительно, отдельно стоящим мебельным предметам в этом фундаментальном исследовании нашлось не много места — ровно столько, сколько позволили факты. На самом же деле работа Спегальского посвящена мебели в том ее своеобразном виде, в каком она развивалась на Руси столетиями в массовом жилище: то, что древнерусская мебель была не передвижной, а встроенной, доказали результаты археологических исследований. Нечасто употребляя слово «мебель», чтобы сохранить терминологическую определенность, автор обстоятельно и, что особенно важно, доказательно рассмотрел устройство древнерусского дома разных социальных слоев, с встроенным оборудованием, полностью удовлетворявшим бытовые потребности и почти не вызывавшим необходимости в отдельно стоящих предметах. Из этой работы становится ясно: как только такая потребность возникнет, появится и мебель — ритуальная, вроде престола, а позднее трона, и сугубо утилитарная, вроде столов, подставок, передвижных скамеек и, позднее, сундуков.
Спегальский убедительно показал развитие и совершенствование жилища на протяжении столетий вместе с вещевым комплексом и жизненным укладом, сложившимся в результате в стройную традиционную систему. Интересно отметить, что с середины XIX века принцип меблировки, сходный с древнерусским, получил развитие и продолжает совершенствоваться в наши дни во всем мире (речь идет о мебельном оборудовании транспортных средств — купе железнодорожных вагонов, кают водного транспорта и т. п.) как наиболее целесообразный способ, который люди независимо друг от друга изобретают, когда надо решить проблему обитания в ограниченном замкнутом пространстве наиболее рационально. Именно такой рационально организованной жилой средой был, по Спегальскому, древнерусский рубленый деревянный дом.
Поистине грандиозное значение для исследования древнерусской культуры имели результаты Новгородской экспедиции 1951 — 1962 годов, организованной Институтом археологии Академии наук СССР. Участниками раскопок Древнего Новгорода была проделана колоссальная работа, и хотя материал систематизирован, обработан и в целом опубликован, определение ряда ценнейших находок — в частности, фрагментов деревянных изделий — еще ждет осмысления и логического обоснования. Что касается мебели, то некоторые выводы, связанные с нею, не представляются убедительными. Сомнение вызывает предложенная археологами реконструкция стула «из длинных и круглых прутьев с несколькими вырезами на каждом. По этим вырезам, кроме крайних, прутья гнулись под углом 90 градусов, образуя, таким образом, подобие буквы «П». Четыре таких изогнутых прута соединяли друг с другом, создавая форму, напоминающую куб. В верхней части куба в прутьях с внутренней стороны делали пазы, в них вставляли щит из тонких досок — своеобразную филенку». Так выглядит описание предмета, реконструированного из развала деталей. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с принципами столярной конструкции, скажет, что воссозданная конструктивная схема совершенно нежизнеспособна для той нагрузки, которую испытывают стул или табурет. Вставлять сиденье как филенки в пазы, да еще лишь по двум сторонам, нецелесообразно, такое устройство непрочно. Обычно древние типы стульев и табуретов имеют накладные сиденья, они проще в изготовлении и надежнее в эксплуатации. Еще проще излюбленный народный прием (например, в европейских «крестьянских» стульях), когда ножки «подсаживали», то есть крепили сквозным шипом с расклинкой прямо в массивное сиденье. На Руси такой прием крепления опор применялся при изготовлении передвижных скамей. Когда позднее, с развитием столярно-мебельного мастерства, научились делать не накладное, а вкладное сиденье, то и тогда в раме выбирали не паз (как в реконструированном «стуле»), а «четверть», причем по четырем сторонам, — таким образом, сиденье, вкладываясь, одновременно и накладывалось сверху, опираясь краями на раму, по которой нагрузка (вес сидящего) распределялась равномерно.
Если мы согласимся, что реконструированный археологами предмет действительно стул (или табурет), то придется признать, что его конструкция — эволюционный тупик. Прочность П-образных изогнутых брусков ослаблена вырезами в местах сгибов под прямым углом, то есть там, где происходит соединение деталей между собой. Такая конструкция не способна держать нагрузку с учетом ее динамичного характера. Кроме того, некоторые детали по размерам годятся лишь для стульев, которые пришлось бы назвать детскими (высота 32,5 см, площадь сиденья 35 х 31,5 см). В таком случае мы имели бы дело с большим открытием — фактом существования детских стульев в Новгороде XIII века, ибо известно, что вплоть до XVIII столетия по всей Европе, как и в России, специальной, широко распространенной детской мебелью была лишь колыбель”.
Колыбель из раскопок Древнего Новгорода. XIII в.
При отсутствии иной передвижной мебели в русской избе наличие табурета для ребенка представляется нонсенсом. Вместе с тем сам по себе реконструированный предмет заслуживает пристального внимания и дальнейшей расшифровки. Каково же его назначение, если учесть, что крепление филенки в паз — принцип устройства всякого дна? Рискнем высказать предположение, что это каркас птичьей клетки. Ее дно в самом деле не несет большой нагрузки, и если представить, что она подвешена, то это оправдывает и делает остроумным ее формообразование из четырех изогнутых П-образных деталей без ориентации на нижнюю опору. Остается только оплести или затянуть ее какой-нибудь сеткой из прутьев.
Брус – это материал, который сегодня очень широко используется в строительстве домов. Часто деревянный брус используют в строительстве крупных деревянных элементов: оконных проемов, лестниц. Брус является очень хорошим видом пиломатериала, не дающим усадки, хранящий тепло и выглядящий эстетично, если отделать его качественно. Брус представляет собой, отесанный со всех сторон кусок дерева толщиной он должен быть больше 100 мм. Чаще всего размеры бруса бывают такими: 100 на 150 мм, 100 на 100 мм и 150 на 150 мм. Длина у них от 4 до 6 метров.
Брус цена будет зависеть и от породы древесины, из которой он выполнен, и от размера, и от влажности. Не последнюю роль в ценовой политике сыграет и точность распила и верность расчетов. Не обольщайтесь, если вдруг вы найдете цену на брус, ниже нашей, тогда уточните у представителя этой фирмы точность распила, влажность бруса, напилен ли он в соответствии со всеми правилами ГОСТа и правильность количества бруса в одном кубе.