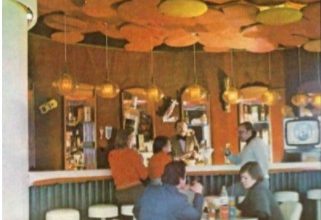Увековеченная в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» и в его знаменитой телеэкранизации «Место встречи изменить нельзя» Марьина роща имела громкую репутацию самого криминального района Москвы в 1920—50-х гг. В ту эпоху вокруг росших в Марьиной роще больших заводов и пролегавших там Октябрьской и Рижской железных дорог гнездилось множество казарм-общежитий и бараков-времянок. К 1960-х гг. их обитатели переехали в «Черемушки-хрущевки», а на месте их былых «гнезд» выросли современные жилые кварталы. Однако даже на карте нынешней Марьиной рощи сохранились исторические адреса и названия, напоминающие о многочисленных эпизодах простой, но не всегда законопослушной жизни обитателей этого исторического района Москвы..
Увековеченная в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» и в его знаменитой телеэкранизации «Место встречи изменить нельзя» Марьина роща имела громкую репутацию самого криминального района Москвы в 1920—50-х гг. В ту эпоху вокруг росших в Марьиной роще больших заводов и пролегавших там Октябрьской и Рижской железных дорог гнездилось множество казарм-общежитий и бараков-времянок. К 1960-х гг. их обитатели переехали в «Черемушки-хрущевки», а на месте их былых «гнезд» выросли современные жилые кварталы. Однако даже на карте нынешней Марьиной рощи сохранились исторические адреса и названия, напоминающие о многочисленных эпизодах простой, но не всегда законопослушной жизни обитателей этого исторического района Москвы..
С незапамятных времен древние москвичи селились на окраинах гигантского лесного массива, границами которого служили нынешняя Самотечная площадь, дороги на Дмитров и Сергиев Посад и протекавшая севернее река Яуза. Веками местные жители вырубали этот лес, оставляя от него островки-рощи, включая Марьину рощу. Вероятно, своё название роща получила по впервые упомянутой в переписи 1678 года соседней слободе «Марьино, Боярское тож», тогда принадлежавшей царскому боярину князю Якову Лобанову-Черкасскому и располагавшейся у речки Копытовки, ныне текущей в трубе под Звездным бульваром.
К концу XVII века относятся и первые разбойничьи легенды о Марьиной роще, где скрывались удальцы, «пошаливавшие» на торговых путях на Дмитров и Сергиев Посад. По одному из преданий, Марьей звали местную красавицу-крестьянку, приглянувшуюся первому владельцу этих мест – московскому боярину начала XV века Фёдору Голтяю. Против воли выйдя замуж за боярина, Марья полюбила его слугу Илью, которого подстерег и убил ревнивый муж. Тогда Марья ушла от него и стала атаманшей шайки разбойников, обосновавшейся в той самой роще, получившей ее имя. По другой романтичной версии, слуга Илья зарезал боярина накануне его женитьбы на Марье – и скрылся в Марьиной роще со своей возлюбленной и ватагой удалых молодцов. Однако, заподозрив жену в неверности, Иван сам убил Марью, распустил свою шайку и ушёл каяться за грехи в монахи.
 У «КРАСНОЙ СОСНЫ»
У «КРАСНОЙ СОСНЫ»
Вероятно, у двух этих легенд была одна реальная подоплека. Уже упоминавшийся владелец Марьина времён Петра I князь Яков Иванович Лобанов в 1687 году был уличен в том, что вместе со своими слугами напал у приметной «красной сосны» на Троицкой дороге на обоз, шедший в Лавру с царской казной, и захватил её, убив двух охранников. Царь-подросток Пётр, узнав о бесчинствах 25-летнего князя, который был его камердинером («комнатным стольником»), поначалу, в порыве гнева, приказал казнить его. Но, поостыв и вняв мольбам бездетной тетки беспутного князя Анны Никифоровны, 16-летний царь смягчил приговор, велев повесить участвовавших в налёте княжеских подручных-калмыков. А князя Якова в Кремле публично выпороли кнутом и лишили 400 крестьянских дворов в счёт понесенного казной ущерба. Впоследствии Лобанов искупил свою вину кровью, отличившись в войнах против Турции и Швеции. Пережив царя Петра, отставной майор лейб-гвардии князь Лобанов скончался в 1732 году в унаследованном от тётки подмосковном селе Очакове.
Примечательно, что пресловутая «красная сосна» на Троицкой дороге, где припозднившихся путников подкарауливали выходцы из Марьиной рощи, сохраняла свою печальную славу до конца XIX века. В 1872 году местный фольклорист П. А. Бессонов писал: «Место это так насижено для грабежа, что доселе на нем держат ночной пикет из окрестных крестьян, по очереди собираются с дубинами». Лишь в начале XX века эта местность была застроена входившими тогда в моду дачами, на месте которых в 1960-70-х гг. появились жилые корпуса на нынешней улице Красной Сосны.
 ТРУПНОЕ МЕСТО
ТРУПНОЕ МЕСТО
Что касается самой Марьиной Рощи, то печальную известность у москвичей она получила еще в середине XVII века – после того как в 1635 году в этой местности появилось каменное здание церкви Воздвижения Креста, воздвигнутое в мужском Воздвиженском Божедомском монастыре. Церковь, более известная по названию одного из ее приделов как храм Ивана Воина на Божедомке, высилась до начала 1930-х гг. на месте нынешней гостиницы Российской армии «Славянка» на Суворовской площади и была известна на всю Москву как место сбора, хранения и опознания мертвых тел, особенно жертв преступлений и несчастных случаев. По давнему обычаю, в Воздвиженском монастыре на улице Божедомка, получившей название от «божьих домов» для обихода безымянных покойников, их тела держали в специальных амбарах для опознания родными, а дважды в год – на Троицу и Покров – отпевали в храме Ивана Воина и хоронили на монастырской земле. Похоронами занимались не монахи, а добровольцы из окрестных жителей, поминавшие усопших прямо на могилах нехитрой выпивкой и закуской.
Эта традиция сохранялась до 1732 года, когда обитатели Божедомки обратились к московским властям с жалобой на неудобства от затяжного соседства с непогребенными мертвецами. Тогда власти распорядились перенести «убогий дом», то есть морг, на поле по соседству с Марьиной рощей, где в 1758 году по повелению императрицы Елизаветы Петровны было устроено городское Лазаревское кладбище. В 1763 году «убогий дом» был закрыт, но обитатели окрестных московских слобод и подмосковных сёл по-прежнему собирались на Лазаревском кладбище на «семик» — на седьмую Троицкую неделю после Пасхи, чтобы помянуть похороненных там безымянных бедолаг. К концу XVIII века скорбный характер этого события забылся, и оно превратилось в шумное гулянье, которое происходило на Троицу уже не на самом кладбище, а в соседней Марьиной роще. Именно тогда в роще появились легкие палатки, а затем и деревянные срубы первых трактиров; там замелькали кибитки цыган, чьи песни и танцы вошли в моду у московского дворянства опять-таки в конце XVIII столетия…
Марьина роща постепенно превращалась в район увеселений, не контролируемых московскими властями, полномочия которых заканчивались на нынешнем Сущевском валу. То есть, они распространялись на Лазаревское кладбище, располагавшееся до уничтожения в 1936 году на месте нынешнего детского парка (улица Советской Армии, дом 12), но не на Марьину рощу.
За весь XIX век гуляний в Марьиной роще не было лишь в послевоенном 1813 году. Осенью 1812 года, в дни захвата Москвы французами, Марьина роща служила надежной «зелёной тропой» москвичам, покидавшим оккупированный город, минуя вражеские караулы на Дмитровской и Троицкой дорогах. К слову, сами захватчики не наведывались в Марьину рощу до начала октября. Лишь накануне их бегства из сожженной Москвы в местность между Останкино и Божедомкой заскочил небольшой отряд мародёров, которых окрестные жители тут же перебили вилами, топорами и дубинами, раздели до нитки и споро закопали на пустыре у Лазаревского кладбища. Там же с конца 1812-го до лета 1813 года на гигантских кострах из свежесрубленных деревьев сжигали свозимые в Марьину рощу со всей Москвы останки погибших в городе французских солдат.
НЕЧИСТАЯ СДЕЛКА
Прокладка в конце 1840-х гг. через Марьину рощу первой в России железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом почти не повлияла на быт местных жителей – за исключением возникших тогда неудобств с перегоном скота через железную дорогу к пастбищам в Останкино. А вот начатое в 1897 году строительство Московско-Виндавско-Рыбинской стальной магистрали от Москвы до незамерзающих портов Латвии сыграло в истории Марьиной рощи заметную, но малопочтенную роль.
После того как в августе 1898 года правление акционерного общества по строительству этой дороги поддержало предложение инженера А. П. Бородина возвести венчающий дорогу Виндавский (ныне Рижский) вокзал у Крестовской заставы на 1-й Мещанской улице, стало ясно, что ближайший к вокзалу участок дороги обязательно пройдет по землям Марьиной рощи, принадлежавшим в ту пору владельцу знаменитой соседней усадьбы «Останкино» графу Александру Шереметеву.
Некоторое время спустя в одной из гостиных Петербурга к Шереметеву как бы невзначай подошел бравый 54-летний вице-адмирал, бывший военно-морской атташе во Франции и, как поговаривали, внебрачный сын царя Александра II Евгений Алексеев. В светском разговоре адмирал похвалил графу здоровый климат его останкинских владений и предложил выкупить у Шереметева пустовавшие участки марьинорощинской земли для их массовой застройки дачами.
Далекий от московских деловых кругов граф Шереметев опрометчиво согласился уступить Алексееву свои марьинорощинские земли, надеясь, что появление дачного посёлка придаст более культурный вид окрестностям графской усадьбы «Останкино». Сделка была заключена в московской конторе графа… и стала полной неожиданностью для строителей Виндавской дороги.
Как оказалось, адмирал Алексеев, вскоре после описываемых событий назначенный наместником на Дальний Восток, на переговорах с Шереметевым выступал лишь подставным лицом знакомых ему еще со службы во Франции финансистов из банка «Лионский кредит». Приобретая по дешёвке графскую землю, французы намеревались получить щедрый выкуп от строителей железной дороги и не ошиблись в своих расчетах. Ведь проложить трассу на соседних участках не представлялось возможным. Чтобы выкупить пустовавшие земли Марьиной рощи по запрошенной французами высокой цене, владельцам дороги пришлось выпустить особый 4-процентный банковский заём.
СГОРЕЛИ, НО НЕ ПРОГОРЕЛИ
Получив сверхприбыли от перепродажи части шереметевских земель для постройки железной дороги, французы спешно и задешево распродали оставшиеся у них наделы в Марьиной роще, которые после 1901 года заметно упали в цене. Прежде участки вдоль главной магистрали района – Первой (ныне Шереметевской) улицы, соединявшей центр Москвы с местами массовых гуляний в самой роще и в Останкино, весьма ценились местными трактирщиками и лавочниками. После того как эта улица превратилась в фактический тупик при железной дороге, загородные гулянья перешли из Марьиной рощи на Останкинский пруд, в Петровский парк и на Воробьевы горы. А в Марьиной роще один за другим заполыхали деревянные здания ранее доходных трактиров «Приволье», «Уют», «Антиповский». По странному совпадению, все их владельцы незадолго до пожаров застраховали свою недвижимость на большие деньги в крупнейших московских страховых обществах «Россiя», «Якорь», «Саламандра».
Отгорев, но отнюдь не прогорев, марьинорощинские кабатчики и лавочники наперебой стали вкладывать страховые премии в строительство жилых домов – благо, вслед за железной дорогой в Марьиной роще в первом десятилетии XX века стремительно росли заводы и фабрики, работников которых надо было селить где-то по соседству. Именно тогда домовладения архитектурного стиля «баракко» появились на Филаретовской (ныне Складская) улице по соседству с насосным заводом фабриканта Густава Листа (ныне ОАО «Московский компрессорный завод «Борец»), на Сущевском валу возле чулочной фабрики Кротова и Метельцова (ныне ЗАО «Ногинка»), в 3-м проезде Марьиной рощи вблизи патронно-дроболитейного завода Гусарова (ныне НПО «Техномаш», наряду с продукцией ракетно-космического комплекса по-прежнему производящее патроны для стрелкового оружия больших калибров).
К слову, фабрикант Гусаров приобрел в привычной ко всякого рода плутням Марьиной роще скверную репутацию после того, как на его заводе в феврале 1902 года произошел взрыв. Последовавший за ним большой пожар уничтожил построенный на скорую руку, но задорого застрахованный заводской корпус, на пепелище которого Гусаров вскоре возвел более крупный капитальный цех. По официальной версии, причиной ЧП была неосторожность работницы, уронившей тут же взорвавшуюся пачку патронов среди ящиков с готовой продукцией. Девушка, объявленная виновницей пожара, скончалась от ожогов в ближайшей Ростокинской больнице. Однако местные жители вспоминали потом, как Гусаров всячески медлил с вызовом пожарных из ближайшей Сущевской части (ныне ее здание за № 11 по Селезневской улице занимает Центральный Музей МВД России). В Марьиной роще шептались и о том, что в день пожара первым загорелась не кладовая патронного цеха, а деревянная труба с ситами для отливки дроби. Но все эти предположения так и остались никем не подтвержденными версиями…
«УНИВЕРСАЛ» ЛАНИН: НОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Помимо промышленных предприятий, в начале XX века в Марьиной роще появились новые преступные промыслы. Так, до конца 1950-х гг. на месте нынешней пятиэтажки за № 64 по Октябрьской улице располагался двухэтажный дом с большим двором и несмываемой надписью-вывеской на стене: «Экипажное заведение». Владевший этим домом до середины 1920-х гг. Иван Ланин официально считался хозяином постоялого двора для извозчиков и торговцем лошадьми. Однако основной доход этому благообразному с виду человеку давали подряды на транспортное обслуживание налетчиков с Сухаревки и Хитрова рынка. Работавшие на Ланина грузовые извозчики-ломовики вывозили товары с подвергавшихся ограблениям по 3-4 раза в год складов Виндавско-Рыбинской железной дороги. Они же, не задавая лишних вопросов, занимались оптовой поставкой в крупные московские магазины фальсифицированной паюсной икры, производство которой было налажено из балтийского сырья в складе у платформы «Зыково» (ныне «Гражданская») Виндавской железной дороги.
Помимо транспортных услуг преступникам, Ланин перепродавал в Москве краденых лошадей, которых ему поставляли цыгане, купившие участок земли в 4-м проезде Марьиной рощи и круглый год державшие там свои шатры. А еще универсал Ланин вместе с местным портным Ильиным и трактирщиком Петром Шубиным держали на паях подпольный цех по перекройке ворованной со складов и из магазинов одежды, которую оптом сбывали на том же Сухаревском рынке.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
С 1915 года самым доходным «теневым бизнесом» Марьиной рощи стал сбыт… поддельных почтовых марок! Дело в том, что на второй год затяжной мировой войны из денежного обращения Российской империи, погружавшейся в инфляцию, стала стремительно исчезать прежде общедоступная разменная серебряная монета – гривенники, пятиалтынные и двугривенные. Вместо нее министерство финансов ввело в обращение почтовые марки достоинством в 10, 15 и 20 копеек с портретами царей Николая II, Николая I и Александра I. На обороте всех этих марок, впервые появившихся в 1913 году к 300-летию царствия династии Романовых, в военные годы ставили печать в виде двуглавого орла с надписью: «Имеет хождение наравне со звонкой монетой».
Отсутствие какой-либо защиты на новых заменителях денежных знаков облегчило их массовую подделку в оснащенных простейшим печатным оборудованием частных литографиях Серпухова и Калуги. А вот массовым сбытом фальшивых марок в самой Москве и в крупных городах по всей железной дороге до Рыбинска руководили проживавшие в Марьиной роще братья Леонид, Василий и Павел Алексеевы. Сыщики Московской полиции несколько раз задерживали их по подозрению в противозаконной деятельности, делали в доме у братьев тщательные обыски, но так и не нашли улик, позволивших отправить их за решетку.
Революционные события 1917 года дали обитателям Марьиной рощи шанс начать новую честную жизнь, но жестоко покарали тех, кто им не воспользовался. Летом 1917 года, когда по объявленной Керенским амнистии из тюрем Москвы на свободу вышли тысячи уголовников, воровского портного Ильина ограбили и зарезали гастролёры из Дорогомилово, пойманные и расстрелянные в 1918 году. Тогда же оборвалась преступная карьера братьев Алексеевых, наладивших в конце 1917 года подделку мандатов военно-революционных комитетов и Советов рабочих депутатов городских районов Москвы на право производства обысков и реквизиций. Попавшиеся с этими мандатами налетчики, спасая свою жизнь, назвали начальнику ударной группы Московской ЧК по борьбе с уголовным бандитизмом, легендарному сыщику Федору Мартынову, адрес на Тверской улице, где братьев Алексеевых взяли с поличным в их подпольной мастерской по изготовлению фальшивых документов.
Дольше всех из «крестных отцов» Марьиной рощи продержался кабатчик Петр Шубин, который в 1920-е годы легально держал в помещении своего бывшего трактира «Уют» скромную чайную – и втихую вкладывал деньги в производство якобы контрабандных французских духов «Л’Ориган». На самом деле их разливала на взятой в аренду бывшей шоколадной фабрике Ливанова в 5-м проезде Марьиной рощи артель фиктивных кооператоров. Собрав достаточный оборотный капитал, марьинорощинские «коопираты» восстановили в 1925 году шоколадное производство, получив право на закупки фондового сахара и крахмала по твердым государственным ценам через Московский Совет народного хозяйства. По договору фабриканты должны были сдавать 70 % готовой продукции в госторговлю опять-таки по твердой цене. Но реальные владельцы фабрики, вроде Шубина, укрывшиеся за спинами «зиц-председателей», набранных из окрестных цыган, сдавали государству минимум товара, сбывая большинство сладкой продукции в провинцию по рыночным ценам.
Когда работой фабрики в 1926 году всерьез заинтересовались ревизоры, хозяева тут же свернули производство и распродали «налево» остатки сырья и наиболее ценное оборудование. Следователям московской городской прокуратуры понадобился год, чтобы разоблачить подлинных владельцев «Цыганского пищепрома», как иронично прозвали фабрику в Марьиной роще. Ее закрытие совпало с началом большой реконструкции ведущих промышленных предприятий Марьиной рощи, которая, несмотря на обилие «блатных и приблатнённых» уже не могла похвастаться сколько-нибудь изощренными криминальными умами до возобновления кооперативного движения в конце 1980-х гг. А потом в Марьиной роще, как, впрочем, и по всей нашей стране, началась уже совсем другая история…
Максим ТОКАРЕВ