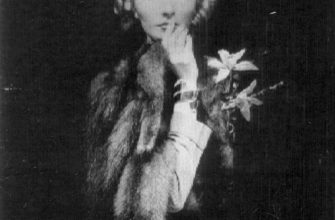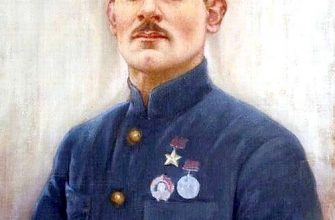Фото: GAMMA-KEYSTONE/GETTY IMAGES/FOTOBANK.COM |
Сталинград — не просто битва двух армий. Параллельно шло иное сражение — схватка двух ментальностей. И победа была нужна каждой из сторон
В начале 1942 года, после победы под Москвой, Иосиф Сталин решил, что война пошла по тому же сценарию, что и в 1812 году: враг разбит, настало время его окончательного разгрома. Но весной последовала серия катастрофических поражений Красной армии в Крыму и под Харьковом. Огромные потери принесло и неудачное наступление подо Ржевом. Все это создало благоприятные условия для летнего стратегического наступления вермахта. Германский натиск на юге России начался в июле 1942 года. Советские войска отступали. Порою беспорядочно. Знаменитый сталинский приказ № 227 («Ни шагу назад!») не спасал положения. Наступление вермахта все продолжалось. Люди находились в подавленном настроении. К 10 августа советские войска заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда. Здесь немецкому солдату-профессионалу, умелой самостоятельной боевой единице, противостоял русский солдат, готовый всем миром навалиться, противопоставить врагу отчаянную готовность жертвовать собою ради выполнения общей задачи. Это была не только битва армий, в Сталинграде столкнулись две ментальности.
Всем миром
Еще в июле Сталин потребовал покончить с паническими и эвакуационными настроениями в городе и принять меры к дальнейшему наращиванию усилий по укреплению обороны. По всей Сталинградской области проводилась тотальная мобилизация. В ополчение вступали все трудоспособные мужчины и женщины в возрасте от 16 до 45 лет. Как и в Москве за год до этого, женщины и дети постарше отправлялись копать окопы и противотанковые рвы. Войска пополнялись танками прямо в Сталинграде: Сталинградский тракторный завод только в августе выпустил 390 «тридцатьчетверок».
23 августа войска Фридриха Паулюса, прорвав оборону 62-й армии, вышли к Волге севернее Сталинграда. Прорыв немцев к реке вызвал шок как у командующего фронтом генерала Андрея Еременко, так и в Москве. Против прорвавшейся к городу 16-й немецкой танковой дивизии были брошены танковый корпус, стрелковая дивизия НКВД, батальоны рабочего ополчения и другие подкрепления, подоспевшие из Сталинграда. Встретив мощное сопротивление регулярных частей Красной армии и народного ополчения, немцы были вынуждены отказаться от попыток захватить Сталинград сходу и приступили к перегруппировке.
 |
 Линия фронта зачастую шла по этажам разрушенных домов, даже по разным комнатам бывших квартир. В этих условиях ни техника, ни авиация сторон не могли поддерживать свою пехоту. На фото слева — немецкие пехотинцы Фото: MONDADORI/GETTY IMAGES/FOTOBANK.COM (X2), ГЕОРГИЙ ЗЕЛЬМА/РИА НОВОСТИ, ALEXANDER MELEDIN/MARY EVANS/EAST NEWS (X2) |
«Соединения Красной армии, — сообщал Паулюсу генерал Густав фон Витерсхайм, — контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Это выражается не только в строительстве оборонительных укреплений и не только в том, что заводы и большие здания превращены в крепости. Население взялось за оружие, на поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рычагами разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели». Особое изумление у немецких солдат вызвали русские девушки-зенитчицы, которые вели огонь по танкам, поставив свои орудия на прямую наводку. Многие из них погибли, не оставив позицию.
23 августа 1942 года немецкая авиация подвергла город на Волге массированной бомбардировке. В тот роковой для сталинградцев день самолеты люфтваффе совершили 1500 вылетов, сбросив 1000 тонн бомб. В течение недели авиационные налеты продолжались непрерывно днем и ночью. Город пылал, как гигантский костер. 3 сентября 1942 года германские войска вышли на окраины Сталинграда. Немцам удалось изолировать 62-ю армию от других соединений Красной армии и прижать ее к Волге. Ожесточенные бои велись за Мамаев курган, в 800 метрах от командного пункта 62-й армии, которую возглавил генерал Василий Чуйков. Положение спасла контратака 13-й стрелковой дивизии генерала Александра Родимцева (10 000 бойцов), которая сумела вернуть курган, потеряв при этом в первые же сутки боев треть своего состава. В это время морской пехотинец Виктор Барсов писал домой: «Здравствуйте, мои дорогие! Извините за мое вынужденное молчание. Во-первых, был в окружении, во-вторых, ведем жестокие бои… Я жив, здоров, питаюсь отлично, так как Родина для нас, защитников города Сталинграда, не жалеет ничего, но и мы для Родины готовы всем пожертвовать, вплоть до самой жизни. Сталинград должен быть наш и будет!»
Но не все сохраняли такую решимость и твердость духа. Большие потери, трудности с пополнением и подвозом припасов через Волгу под обстрелом врага оказывали тяжелое влияние на моральное состояние войск. Отряды НКВД задерживали бойцов, пытавшихся спастись из сталинградского ада на переправе. Немало было случаев перехода на сторону противника. Заградотряды сталинградского направления в августе — сентябре задержали десятки тысяч бойцов, сбежавших с передовой. Помощник политрука 92-го запасного полка Н.А. Соколов записал в дневнике: «Бестолковые занятия, черная работа, голодные пайки приводят бойцов к крайности, к дезертирству. Сегодня вновь ушли двое. А сколько таких, которые ждут удобного случая. В победу уже никто не верит…» Одной из причин падения боевого духа в некоторых частях был недостаток продовольствия. Боец Курнаев писал в письме к сыну в Бухару: «Шесть суток никакого питания не давали. Только из огородов рыли картошку и этим питались…»
Полевая почта
Из письма командира минометной роты Михаила Алексеева в конце 1942 года: «Уже сотни раз смерть пыталась захватить меня в свои холодные объятья, но тщетно: продолжаю жить и бороться . Трудно погасить во мне искру мщения. Едва ли ты поверишь, моя дорогая, что в голубых и когда-то открытых глазах теперь неугасимо поблескивают злые огоньки, как у затравленного тигренка. Много горя принес мне немец. Много пережил я вместе с моей Родиной. Чувства обострились. В груди моей больше нет сердца — раскаленный кусок металла бьется в груди моей. Как и всякий фронтовик, я, пожалуй, потерял дар речи: я привык выражать свои чувства штыком, гранатой, бомбой…»
Из письма немецкого солдата 31 декабря 1942 года: «Здесь все плохо и безнадежно. Уже четыре дня я не ел хлеба и живу только на супе на обед. Всюду голод, холод, вши и грязь. Днем и ночью нас бомбят советские летчики. Если в ближайшее время не случится чудо, я погибну. Иногда я молюсь, иногда думаю о своей судьбе. Все представляется мне бессмысленным и бесцельным. Когда и как придет избавление? Что это будет — смерть от бомбы или снаряда? Или же болезнь? Как может все это вынести человек? Или эти страдания — наказание Божие? Мои дорогие, я не должен все это писать, но мое терпение кончилось. Я растерял юмор и разучил ся смеяться. Мы здесь все такие — дрожащий клубок нервов, все живут как в лихорадке. Если из-за этого письма я предстану перед трибуналом и меня расстреляют, то для моего измученного тела это будет избавлением от страданий». 0 3,3
 |
Там, где нет земли
Какое-то время большое количество перебежчиков вселяло в немцев неоправданный оптимизм. Один из офицеров 79-й пехотной дивизии писал домой: «Боевой дух русской армии никуда не годится. Многие перебегают к нам изза голода. Даже если нам не удастся подавить сопротивление советских солдат этой зимой, они все равно вымрут от голода». Во вспомогательных частях 6-й армии Паулюса насчитывалось около 50 000 бывших русских военнопленных. В 71-й и 76-й пехотных дивизиях состояло по 8000 русских перебежчиков — почти половина личного состава. Немало среди «добровольцев» вермахта было донских казаков и украинских националистов.
Во второй половине сентября Жуков организовал новое отвлекающее наступление на северный фланг армии Паулюса с тем же результатом, что и в первый раз. Капитан немецкой армии Лорингофен вспоминал: «Русские атаковали с холма, наши же части находились на склоне. Два дня они следовали одним и тем же маршрутом. Прекрасные цели! Тогда мы сожгли не меньше сотни танков».
21 сентября немцы опять перешли к наступлению в городе. Генерал Родимцев вспоминал об этих боях: «Повсюду то и дело вспыхивали яростные рукопашные схватки. Это поистине был ад». Солдаты вермахта были потрясены. Немецкий капрал в письме к отцу признавался: «Отец, ты часто говорил мне: будь верен своим идеалам и ты победишь. Я не забыл твои слова, но сейчас скажу: пришло время, когда каждый думающий немец должен наконец понять, что эта война — полное сумасшествие. Невозможно описать, что здесь творится! В Сталинграде каждый, у кого еще целы руки и ноги, непрерывно сражается, причем как мужчины, так и женщины». Численность некоторых немецких дивизий (около 10 000 чел.) упала до размера полка (около 1000 чел.). В танковых дивизиях оставалось по несколько танков. Советская 62-я армия в течение сентября и октября непрерывно пополнялась войсками. Дивизии, потерявшие солдат, выводились в тыл на пополнение, а затем вновь бросались в бой. В 62-й армии стали говорить: «За Волгой для нас земли нет». Эти слова стали клятвой для многих бойцов. Между тем с военной точки зрения в захвате города не было необходимости, поскольку стратегическая цель — обеспечение северного фланга при наступлении на Кавказ — была достигнута: немцы в нескольких местах вышли к Волге. 16 сентября радиосообщение из Берлина оповещало: «Несокрушимые германские войска захватили Сталинград. Россия разрезана на две части — север и юг — и скоро прекратит свое существование как суверенное государство». Задача, стоявшая перед Паулюсом, имела прежде всего идеологическое значение. Со своей стороны, советская пропаганда всячески нагнетала ненависть к врагу среди красноармейцев. В начале сентября в газете «Красная Звезда» было напечатано обращение Ильи Эренбурга к советским солдатам. Обращение заканчивалось следующими словами: «Убей немца — вот молитва твоей матери! Убей немца — вот крик русской земли! Не раздумывай, да не дрогнет твоя рука! Убивай!» 14 октября Паулюс, собрав все имеющиеся в резерве силы, при мощной поддержке авиации начал новое наступление в городе. Как писал Чуйков, «в этот день мы не видели солнца». Командный пункт армии находился под обстрелом, и «охрана штаба армии не успевала откапывать людей из разбитых блиндажей».
Постоянные бомбардировки сделали город непроходимым для немецких танков, а обилие укрытий облегчало защитникам задачу борьбы с бронетехникой. 15 октября немцы все же захватили тракторный завод, прорвались к Волге и разрезали 62-ю армию пополам. В некоторых дивизиях (10 000 чел.) армии оставалось по несколько десятков бойцов. Армия Чуйкова удерживала теперь лишь узкую полоску земли вдоль западного берега Волги. Она держалась только благодаря постоянным интенсивным обстрелам советской артиллерии, которая вела огонь с восточного берега Волги. Центральная переправа города находилась под огнем немецкой артиллерии и авиации. Вечером на берег выходили раненые в надежде попасть на восточный берег. Врачей не хватало, и люди умирали сотнями прямо на берегу. Трупы не убирались, по ним ездили на машинах.
Но даже в самые тяжелые моменты сражения защитники города верили в победу. В конце октября в письме к матери старший лейтенант Борис Кровицкий написал: «На Волге бои идут тяжелейшие. И все-таки чувствуем: скоро перелом. Я уверен, что разгром немцев начнется так же внезапно, как и началась война…» В октябре Донской фронт генерала Константина Рокоссовского, развернутый к северу от армии Паулюса, в очередной раз начал наступление с целью отвлечь немецкие части от города. Основным результатом стали тяжелые потери советских дивизий. Боец одной из них В.И. Коваленко в эти дни в письме родным сообщал: «Я жив, а через секунду, может быть, убьют, потому что здесь жизнь секундная. Хотя вы и пишете не думать о смерти, но я не думаю, чтобы остался жив, потому что очень сильные бои, много народу перебито, трупы лежат на земле, жутко смотреть: и немцы, и наши лежат, бедняги, гниют и никому не нужны, хотя бы похоронили, а то валяются, как снопы. Танки ездят по людям, как по дровам. Танк весь в крови, жутко смотреть…»
11 ноября перед рассветом началось последнее немецкое наступление. Германские солдаты сражались на пределе своих сил. По словам военного историка Михаила Барятинского, «упорные бои почти все время переходили в рукопашные схватки, плохо поддававшиеся централизованному руководству. Немцы сражались с какой-то безысходной отчаянностью, русские — с ясным пониманием того, что тут либо пан, либо пропал. Градус ненависти достиг наивысшей точки — пленных не брали». Советские бойцы отразили и этот удар. Один из батальонов (около 300 чел.) сократился до 15 человек. Взвод (20–40 чел.), в котором осталось только четверо бойцов, израсходовал все боеприпасы. Солдаты послали раненого в тыл с донесением: «Перед нами крупные силы противника. Открывайте огонь по нашей позиции. Прощайте, товарищи, мы не отступили». 6-я армия так и не смогла сломить сопротивление защитников Сталинграда. Тем временем немецкое наступление на Кавказ тоже забуксовало. Сталинград поглощал все резервы Паулюса. Стратегический план Гитлера провалился.
 Карта линии фронта, проходившей через Сталинград в ноябре 1942 года. На схеме отмечены основные места сражений, где велись уличные бои. Именно в этих узловых точках опробовалась новая пехотная тактика, в том числе и с применением огнеметов |
Письмо, задержанное военной цензурой
«Наш полк разбили за два дня. Убитых, раненых много, так что тошно глядеть, сердце захватывает. Если вам все описывать, то очень много бумаги надо. Что здесь творится на фронте? Немец так бьет, что нигде нет спасения… В тылу и на фронте кормят в трое суток один раз и не досыта. Здесь в лазарете кормят два раза в сутки. Хлеба дают 600 гр., плохой суп, немного каши. Жена и дети, как-нибудь живите, видно, мое такое счастье, что даст господь».
Из дневника немецкого офицера В. Гофмана
1942
1 сентября «Неужели русские действительно намереваются сражаться на самом берегу Волги? Это же безумие…»
16 сентября «…Варвары, фанатики…»
25 октября «…Нас всех ждет мрак и туман».
27 октября «Русские — это не люди, а какие-то железные существа. Они никогда не устают и не боятся огня».
29 октября «Каждый солдат считает себя обреченным…»
 |
Новая тактика: война в руинах
6-я армия нашла возможность еще больше усилить натиск на русских, возродив штурмовые отряды, впервые примененные еще в Первую мировую войну. Эти отряды представляли собой группы из 10 человек, которые были вооружены пулеметами, огнеметами и имели запас негашеной извести для «очистки» бункеров, подвалов и колодцев канализации.
Войска Чуйкова также стали использовать новую тактику: они удерживали особо прочные здания, создавали в них опорные пункты с гарнизонами, способными вести круговую оборону.
Бойцы 62-й армии во время бомбардировок вплотную подбирались к немецким позициям, сознательно идя на самый ближний бой, постоянно скрытно маневрировали среди развалин. Формировались штурмовые группы, вооруженные автоматами, гранатами и холодным оружием для рукопашного боя. Началось массовое применение снайперов. По приказу Чуйкова участились ночные атаки. Советская авиация, избегавшая «мессершмитов» днем, наносила по немецким позициям жестокие удары ночью.
Восход «Урана»
Уже с октября 1942 года в советских штабах обсуждался план зимнего наступления с целью окружения 6-й армии Паулюса. Согласно плану, получившему название «Уран», предполагалось армию Паулюса окружить, выйти к Ростову и закрыть путь к отступлению немецким войскам на Северном Кавказе. Красная армия значительно превосходила вермахт в людских и материальных ресурсах. На трех фронтах Сталинградской оси было сосредоточено и готово к наступлению более миллиона солдат. 19 ноября началось советское наступление на румынские дивизии, прикрывавшие фланги армии Паулюса. Противотанковая оборона румынских войск соответствовала скорее требованиям Первой мировой войны и быстро была прорвана. 23 ноября в районе Калача встретились советские танковые корпуса, наносившие удары с севера и юга от Сталинграда. Армия Паулюса оказалась в окружении. Когда германское командование опомнилось, было решено готовить операцию по спасению героической 6-й армии. По приказу фюрера люфтваффе организовало воздушный мост для доставки продовольствия, боеприпасов и горючего в Сталинград. Однако авиация могла доставить в «котел» лишь 350 тонн груза в неделю, в то время как потребности 6-й армии составляли 300 тонн ежедневно.
В момент окружения склады 6-й армии оказались разрушенными. Поэтому с 26 ноября норма продовольствия была сокращена до 350 г хлеба и 120 г мяса. В декабре, по свидетельству немецких военнослужащих, они получали по 50–100 г хлеба. Все лошади, ставшие в декабре основным источником мяса, были съедены. Уже 20 декабря немцы начали умирать от голода. Солдат одолевали вши. Недоедание, дефицит топлива и нехватка теплого обмундирования вели к тому, что немцы отчаянно мерзли. Курт Ройбер писал родным 3 декабря: «После отпуска ни разу не раздевался. Вши. Ночью мыши. Сверху сыплется песок. Вокруг все грохочет, но у нас хорошее прикрытие. Делимся остатками сэкономленной пищи… Вспоминается прекрасная прежняя жизнь с ее радостями, искушениями и любовью. Каждый мечтает только об одном — жить, выжить! Сердце мое переполнено: внутри — серьезные размышления о Боге и мире, снаружи — страшные звуки разрушительной бойни».
В начале декабря войска Рокоссовского пытались уничтожить окруженную группировку, но безрезультатно. Солдаты вермахта, несмотря на холод и голод, сражались стойко, умело, активно, побежденными себя не считали и не теряли надежды на спасение. В штабе Донского фронта сильно недооценивали силы противника.
Прорыв кольца окружения 6-й армии с внешней стороны был главной задачей операции «Зимняя гроза», разработанной германским командованием. С этой целью создали специальную группу армий «Дон» во главе с фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном. Гитлер поставил перед ним две задачи: восстановить целостность фронта на юге, где зияла трехсоткилометровая брешь, и одновременно деблокировать 6-ю армию. Это было невыполнимо. В конце ноября — начале декабря 1942 года на усиление этой группы войск были переброшены 10 дивизий с других участков Восточного фронта и из Западной Европы. Ударной силой этой группировки выступала 4-я танковая армия Германа Гота. 12 декабря танки Гота двинулись на север и вскоре оказались менее чем в 40 километрах от края «котла». Немецкие солдаты, находившиеся в окружении, с радостными лицами прислушивались к отдаленной канонаде. Генерал Андрей Еременко опасался также, что танковые дивизии 6-й армии вот-вот ударят из «котла». Он не мог знать, что Гитлер упорно отказывается дать разрешение на прорыв из кольца и что оставшиеся у Паулюса танки имели запас горючего в лучшем случае на десяток километров.
 Как правило, пехотинцев, которым удавалось продержаться в первые три атаки, считали везунчиками. Смерть подстерегала всюду: граната, пулемет или пуля снайпера всегда были готовы забрать очередную жизнь. Фото: ALEXANDER MELEDIN/MARY EVANS/EAST NEWS |
Советские военнопленные
В ведении 6-й армии находились лагеря советских военнопленных, которые содержались в бесчеловечных условиях. В лагерях, расположенных в районе Воропоново и Гумрака, из 3500 военнопленных остались в живых только 20 человек.
В спецсообщении ОО НКВД ЮФ «О зверствах немецко-фашистских захватчиков» от 24 января 1943 года констатировалось: «Освободив х. Ново-Максимовский, Сталинградской области, наши бойцы обнаружили в двух кирпичных зданиях с замурованными окнами и забитыми дверями 76 советских военнопленных, 60 из них умерли от голода, часть трупов разложилась. Остальные военнопленные полуживые, в большинстве не могущие от большого истощения подняться на ноги. Как оказалось, пленные находились в замурованном здании около двух месяцев, немцы постепенно морили их голодом, лишь изредка бросая куски гнилой конины и давая пить соленую воду…»
В докладной записке В.С. Абакумова о зверском отношении немецких военнослужащих к советским военнопленным сообщалось о лагере военнопленных Дулаг-205 под Сталинградом: «На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода, а также освобождено несколько сот истерзанных, истощенных от голода и до крайности измученных быв. военнослужащих Красной армии…»
 |
Судьба мирного населения
Еще в июле Тимошенко предлагал Сталину эвакуировать из Сталинграда женщин и детей. Но эвакуации не произошло. В это время в Сталинграде скопилось около 700 000 мирных жителей, в том числе беженцев с других территорий. Только в результате бомбардировок 23 августа в городе погибло не менее 71 000 человек.
Общая численность безвозвратных потерь гражданского населения за время Сталинградской битвы составляет более 180 000 человек, то есть больше, чем от атомной бомбардировки в Хиросиме. В разрушенном городе не хватало воды, не было электричества.
В перерывах между бомбежками и обстрелами женщины и дети выползали из подвалов и земляных нор и спешили срезать куски мяса с убитых лошадей, пока до туш не добрались бродячие собаки и крысы. Ночью дети пробирались к сожженным зернохранилищам, там набивали сумки обгоревшим зерном и спешили назад. Страдания мирных жителей производили гнетущее впечатление даже на немцев. Один из офицеров 295-й пехотной дивизии писал домой: «Дети, женщины, старики лежат у дороги, ничем не защищенные от холода. Пусть они наши враги, но это зрелище меня потрясло».
Варка в «котле»
8 января советское командование предъявило Паулюсу ультиматум с требованием капитулировать во избежание бессмысленных потерь. Предложение было отвергнуто. По мнению фельдмаршала Манштейна, «для генерала Паулюса отклонение предложения о капитуляции было его солдатским долгом». Стойкость 6-й армии для германского командования имела огромное значение. Генерал Ганс-Валентин Хубе доносил до сведения Паулюса стратегические соображения Гитлера: «6-я армия должна сковывать крупные силы русских, чтобы дать возможность перестроить южный участок восточного фронта».
10 января после мощнейшей артиллерийской подготовки войска Донского фронта перешли в наступление. Боевые действия продолжались без передышки днем и ночью. И все же 6-я армия, учитывая физическое состояние ее солдат и нехватку техники и боеприпасов, оказала удивительно стойкое сопротивление. Об этом со всей уверенностью можно судить по количеству потерь в советских войсках за первые три дня наступления. Почти половина русских танков была уничтожена, а потери в личном составе превысили 20 000 человек. К этому времени в 6-й армии держать оружие в руках мог лишь каждый пятый. Но немецкие солдаты, верившие в то, что они сражаются за родину, продолжали держаться. Сержант люфтваффе из 9-й зенитной дивизии писал домой: «Я горжусь тем, что могу с чистой совестью назвать себя защитником Сталинграда. Будь что будет! Когда придет мой последний час, я умру с радостной мыслью о том, что исполнил свой долг перед родиной и отдал жизнь за нашего фюрера и свободу германского народа».
Даже в такой ситуации некоторые немецкие солдаты в письмах старались скрыть от родных всю бездну своего отчаяния. Солдат по фамилии Зеппель в январе писал домой: «Погода стоит ужасная, но я всегда могу погреться у железной печки. Рождество встретили очень весело». Другие, впрочем, были гораздо откровеннее. «Не могу без боли думать о тебе и детях. Жаль, что малыши больше никогда не увидят своего папу. Ганс, наверное, меня совсем забыл…» Армия Рокоссовского теснила немцев из степей к Сталинграду, и вскоре в городе скопилось более 100 000 солдат вермахта. Почти все они страдали от желтухи, дизентерии и других болезней. Лица изможденных людей приобрели зеленовато-желтый оттенок. По свидетельству доктора Ахлейтнера, в немецком госпитале груды замерзших трупов и чадящие керосиновые лампы создавали сходство с преисподней. Раненые, получавшие по одному тонкому ломтику хлеба в день, все время просили есть. Санитары размачивали окаменевшие горбушки, превращая их в жидкую кашицу, и этой смесью кормили тяжелораненых. Пальцы рук и ног пострадавших зачастую отваливались и оставались в старых бинтах при перевязке. Санитары, менявшие у раненых повязки, вспоминали, что серая масса вшей устремлялась к их рукам, как только они брались за дело. Когда кто-то умирал, паразиты немедленно покидали мертвое тело и искали живую плоть.
К концу января единого командования в 6-й армии уже не существовало. Но даже на последнем этапе битвы на Волге большинство немецких частей продолжало оказывать противнику отчаянное сопротивление. Поскольку официальной капитуляции не было, то конец наступил примерно ко 2 февраля 1943 года. После победы под Сталинградом у русских было еще серьезное поражение под Харьковом. Инициатива в войне окончательно перешла в руки Красной армии только в ходе Курской битвы летом 1943 года. Но перелом в войне начался именно на Волге. Страдания, героизм и тяжелые потери не остались бесплодными. Для германской армии Сталинград стал страшным потрясением. Дисциплина и верность долгу солдат лучшей армии вермахта были сломлены отчаянной решимостью защитников города и их ненавистью к врагу. Советские солдаты после Сталинграда окончательно поверили в возможность победы.