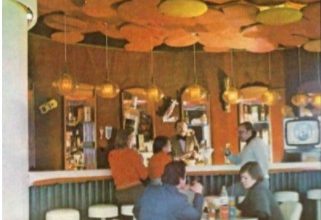Архивное дело спецсектора общего отдела Ленинградского горкома, в котором документ содержится (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 98. Д. 69. Л. 112 – 119), по-прежнему секретно в целом, но восемь листов оказались несекретными. И после года борьбы я их получил. Это письмо на имя генсека Брежнева, председателя Совета Министров СССР Косыгина и генпрокурора Руденко от группы ленинградских архитекторов.
В основном это известные архитекторы-реставраторы: Ирина Николаевна Бенуа (1912 – 2005), Константин Михайлович Дмитриев (1901 – 1983), Александр Александрович Кедринский (1917 – 2003), Михаил Азарьевич Краминский (1899 – 1982), Евгения Николаевна Петрова (ум. 1992), Михаил Михайлович Плотников (1901 – 1992), Борис Михайлович Серебровский (1902 – 1978), Антонина Ивановна Тараненко (1907 – 1990), Наталья Михайловна Уствольская (1909 – 1987), Серафима Сергеевна Фролова (род. 1912) и Ирина Густавовна Шульман (1912 – 2008).
Начальников среди этих людей не было, письмо 11-ти написано, судя по всему, помимо Союза архитекторов (хотя все подписавшие были его членами), датировано 22 апреля 1967 года, а непосредственным поводом послужило уничтожение 12 апреля 1967 года путем взрыва дома 16/2 по пр. Римского-Корсакова, дома, построенного в конце XVIII века. После этого взрыва терпение архитекторов-реставраторов иссякло, и они отправили это письмо.
Как было заведено, письмо до высокопоставленных адресатов не дошло и вернулось из ЦК КПСС обратно в Ленинград. Есть штамп спецсектора с датой 23 мая 1967 года. Возможно, все, чего добились архитекторы, – это восстановление взорванного дома 16/2 по пр. Римского-Корсакова не в виде модернового урода, как первоначально планировалось, а в историческом виде.
Текст этого письма звучит удивительно современно.
Во-первых, письмо 11-ти демонстрирует, что были времена, когда не все архитекторы солидарно уничтожают исторический облик города, а находились и такие, кто смело протестовал против варварских переделок.
Во-вторых, на удивление современно выглядит список «архитектурных преступлений»: внеконтекстная застройка с нарушением элементарных градостроительных композиционных принципов, вносящая диссонанс (как в районе Смольного или на Манежной пл.); высотные здания, сбивающие существующий масштаб (в письме речь идет о гостиницах «Ленинград» на Пироговской наб. и «Советская» на Лермонтовском пр. – варварских проектах, продвинутых главным архитектором Ленинграда В. А. Каменским как плацдармы для вытеснения исторических зданий новыми); снос ценных памятников (Пироговский музей на месте нынешней гостиницы «Санкт-Петербург», дом 2 на пл. Коммунаров); бездумная надстройка зданий классической архитектуры; уничтожение карнизов, лепных деталей и т.п.
В-третьих, ряд объектов, которые были названы гибнущими в 1967 г., и через 44 года в этом состоянии по-прежнему и пребывают – например, Знаменка и Михайловка в Петергофе. Или Баболовский дворец, построенный в 1785 году для Г. Потемкина в Баболовском парке Царского Села и разрушенный во время Великой Отечественной войны (на фото 2006 года руина выглядит как обвинительный акт, правда уже не нацистам).
Год назад Михаил Мильчик предложил оставить дворец в руинах: «Думаю, его стоит оставить в руинированном состоянии и провести только консервацию. Так он сможет больше рассказать об архитектуре, чем восстановленный». То есть за 66 лет, прошедших после войны, и 44 года, прошедших после письма Брежневу, не была сделана даже консервация.
Это же относится и к «Китайскому театру» А. Ринальди (1779) в Царском Селе. В 2009 году обещали начать восстановление в 2012-м, но вопрос назрел еще 44 года назад. Впрочем, Ратная палата в том же Царском Селе была как-то восстановлена, но Федоровский городок в основном пребывает в запустении и руинированности (что-то там сделали, но самую малость). Особняк графини Самойловой в Антропшине (архитектор А. П. Брюллов) в 2011 г. по-прежнему, как и 44 года назад, стоит без крыши и продолжает разрушаться. Восхитительная стабильность.
В-четвертых, свежо звучит то место письма, в котором говорится о нежелании властей выполнять постановление Совета Министров РСФСР от 24 мая 1966 г. № 473 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры РСФСР», предписавшее создать охранные зоны.
Наконец, в-пятых, интересно письмо и как список тех точек уничтожения, которые проявились уже к 1967 году и в наше время опять были задействованы. Так рядом с гостиницей «Ленинград», которая в 1967 году еще не была построена, но уже виделась как источник резкого диссонанса, привела к «Монблану» – постройке уж вовсе чудовищной по архитектурной бессмыленности.
В 1966 году начали портить Манежную площадь надстройкой дома на пересечении нынешних Караванной и Итальянской, которая, по мнению авторов письма, умалила роль и значение самого Манежа архитектора К. И. Росси. А уважаемый архитектор Марк Рейнберг своим домом в 2002 году продолжил порчу площади и умаление Росси. Интересно, что сказали бы авторы письма о его «классическом» изделии, внедренном сюда, как слон в посудную лавку, и задавившим здание Росси окончательно и бесповоротно?
Подробно написано о новом строительстве в районе Смольного, в частности, о намеченной перестройке ул. Воинова (Шпалерной) между Смольным и Таврическим дворцом. Именно сюда другой уважаемый архитектор Юрий Земцов воткнул своего стеклянного монстра, усилившего ту «разнохарактерность всего нового фронта застройки и его немасштабность по отношению к историческим сооружениям», о которой предупреждали авторы письма. Иными словами, разметка территории, предназначенной для новостроек и обрекавшей исторический Петербург на уничтожение, была проведена уже к 1967 году, и публикуемое письмо это зафиксировало.
Так что когда нынешние архитекторы, все эти земцовы, гайковичи, явейны, мамошины и иже с ними говорят о том, что они впитали лучшие традиции архитектуры, то надо иметь в виду, что пропитались они ядовитой традицией уничтожения исторической архитектурной ткани и ее порчи. Ведь у разрушения тоже есть свои истоки и основоположники – письмо их демонстрирует наглядно.
Хотя 1960-е по сравнению с нулевыми – время постничества и вегетарианства. Поглядели бы старики на новорусский Летний сад, на проекты по «Новой Голландии», «Охта/Лахта-центру», на стеклянные голубятни от Земцова на Невском проспекте и другие новации последнего десятилетия.
Дом с воспоминаниями
Не могу не сказать – неоднократно упомянутый в письме 11-ти дом 16/2 по пр. Римского-Корсакова напротив Никольского сада и Никольского собора – это тот дом на площади Коммунаров (ныне Никольской), в котором я провел первые 12 лет жизни. Так сказать, моя малая родина.
Мы жили в двух комнатах коммунальной квартиры на третьем этаже, отопление было печным до 1966 года, сарай с дровами – во дворе, горячей воды, естественно, не было; три семьи, 16 человек, постоянные скандалы из-за счетчиков (свет, газ), битва с Нонкой за чулан, три лампочки в туалете – у каждой семьи своя… У Муравьевых положительный дядя Ваня работал шофером, возил мясо, у Петуховых дядя Володя работал в столовой поваром – таскал сумки, пил. Бабушка со смехом рассказывала, как он выпивал из нашей банки с огурцами рассол, когда возвращался с работы усталый, но довольный.
Одна стена в нашей комнате зимой промерзала, по обоям текла вода, комнату было не протопить. Я и тогда знал о почтенном возрасте дома, он действительно был с толстыми стенами (кроме той, которая промерзала – возможно, она пострадала во время войны и так и не была восстановлена), но внутри имел вид запредельно жуткий. Таким образом, мы были счастливы когда этот дом покинули.
И из этого письма я узнал про дату и способ уничтожения дома, а также про борьбу архитекторов за восстановление его в первоначальном виде.
Действительно, в Октябрьском районе, да и по всему городу тогда, в 1960-е, повадились сносить старинные дома, а строить на их месте новые, которые никак не соответствовали архитектурному контексту. Например, такой дом появился на пр. Майорова, рядом с пр. Римского-Корсакова. Традиция эта идет из глубины социалистического периода с его демонстративным наплевизмом (все-таки гениально придумал Булгаков профессию Шарикову: начальник подотдела очистки).
Кстати, у меня сохранилась вырезка из «Ленинградской правды» за 1969 год. Маленькая заметка «Возрождение ансамбля», в которой сказано, что «недавно градостроительный совет Ленинграда одобрил один из вариантов проектного задания возрождения памятника архитектуры конца XVIII века. Над чертежами работали архитекторы В. Матвеев и С. Никанорова из института Ленжилпроект. Внешне этот ансамбль станет таким же, каким был в 1780 году <…>».
Это и был единственный результат обращения архитекторов к Брежневу и Ко.
Михаил ЗОЛОТОНОСОВ
Письмо 11-ти
Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Брежневу Л. И.,
Председателю Совета Министров СССР тов. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко Р. А.
<…>За последнее время отношение к городу резко изменилось. Намечены и частично осуществлены строительные мероприятия, искажающие ценнейшие историко-архитектурные комплексы и отдельные городские сооружения.
Недопустимые реконструктивные работы частично осуществлены в районе Смольного<…>.
Несмотря на возражения общественности, здесь взорваны здания двух манежей и намечен снос 38-й поликлиники. Разработан проект объединения площадей Растрелли и Диктатуры Пролетариата, в корне искажающий облик района. Объединение площадей не вызвано какой-либо практической необходимостью, а с градостроительной точки зрения даст только отрицательный эффект. Композиционная значимость здания Смольного и пропилей будет умалена. Новая площадь, лишенная композиционной оси, получит неприятную вытянутую конфигурацию<…>.
Искажаются и другие историко-революционные памятники Ленинграда.
Надстроен двумя этажами и переделан дом № 1 с квартирой В. И. Ленина на Сердобольской улице; разработан проект постройки нового здания на месте Измайловского манежа – одного из памятных ленинских мест; намечена полная перестройка улицы Воинова между Таврическим дворцом и Смольным – района, овеянного славой революционных событий.
<…>Архитектурная и художественная общественность дает отрицательную оценку реконструктивным работам, проведенным на площади Александра Невского, на Манежной площади, на площади Мира, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта, на Петровской набережной, где на одном из наиболее ответственных участков берегов Невы возникла группа многоэтажных, никак не связанных между собой зданий.
Оценивается как градостроительная ошибка постройка высотных гостиниц на Пироговской набережной и на Лермонтовском проспекте. Эта последняя своим примитивным геометрическим силуэтом и неверно взятым масштабом уже испортила перспективу набережной Фонтанки. Гостиница на Пироговской набережной внесет резкий диссонанс в центральную часть панорамы Невы. Кроме того, эта гостиница запроектирована с учетом сноса здания Пироговского музея, сооруженного на народные деньги. Сохранить музей следует из элементарного уважения к памяти крупнейшего русского хирурга.
На художественном облике города крайне отрицательно сказываются перестройки и надстройки зданий классической архитектуры конца 18-го – начала 19-го столетий. Уродуются их карнизы, нарушается декор фасадов, пропорциональные соотношения этажей, окон и пр. <…>
Показательна в этом отношении надстройка дома на углу улицы Толмачева и ул. Ракова, не только обезобразившая один из лучших жилых домов Ленинграда конца 18-го века, но и умалившая роль и значение в застройке Манежной площади здания самого Манежа, сооруженного архитектором К. И. Росси.
Надстройка зданий, подгонка их под один карниз с доходными домами конца 19-го – начала 20-го столетий зрительно суживает и затеняет старые улицы и площади Ленинграда.
Стремление местных организаций и районных советов «выжать» дополнительную жилую площадь из старых кварталов Ленинграда, отличающихся и без того высокой плотностью застройки, безусловно, идет вразрез с интересами самого города.
Примером полного забвения этих интересов и игнорирования мнения общественности служит разрушение дома № 2 на площади Коммунаров (дом № 16 по пр. Римского-Корсакова). Он был взорван 12 апреля в 20 часов несмотря на категорические возражения Архитектурно-планировочного управления и общественности. Вопрос был решен на узком заседании Ленгорисполкома.
<…>Разрушение дома № 2/16 на площади тем более преступно, что он находился в хорошем техническом состоянии. Заключением технической экспертизы, проведенной в 1959 году экспертно-техническим отделом АПУ, допускалась надстройка дома на 2 – 3 этажа без усиления фундамента. Требовалась лишь перекладка части стены небольшого флигеля со стороны пр. Римского-Корсакова, поврежденного в годы войны взрывом артиллерийского снаряда.
Новый дом, запроектированный Ленжилпроектом на площади Коммунаров, по своей архитектуре совершенно чужд ансамблю площади. <…> В первом этаже здания намечено устройство образцово-показательного комиссионного магазина, ненужного в этом районе.
<…>Огромный ущерб памятникам Ленинграда наносится при их ремонтах. Качество ремонтных и даже реставрационных работ из года в год снижается. При ремонте, как правило, обезображиваются балконы и карнизы зданий – они обшиваются железом с грубо выбитыми и неправильными профилями, портятся профиля тяг, имеет место уничтожение на зданиях лепных деталей, решеток, ворот и даже скульптурных фигур. Внутри зданий при капитальных ремонтах строителями безжалостно уничтожается ценный архитектурный декор помещений – барельефы, лепные карнизы, паркеты наборного дерева, мраморные камины со скульптурными рельефами, изразцовые печи, разбиваются или просто выкрадываются вделанные в стены зеркала и т.д.
Разгромлена отделка дома № 6 на 1-й линии Васильевского острова, дома № 1 на ул. Халтурина, д. № 14 на Дворцовой набережной, домов № 26 и № 99 на Фонтанке, дома № 13 на Мойке и т.д. Некоторые из этих зданий состоят под охраной Гос. инспекции по охране памятников.
Показателем последних недоброкачественных реставрационных работ по зданиям-памятникам могут служить павильоны Инженерного замка. Каменные муфтированные колонны на фасадах павильнов были затерты штукатуркой и окрашены в белый цвет, а крыльца павильонов облицованы гранитом. <…>
Безразличное отношение к историческим и художественным памятникам Ленинграда, их физическое уничтожение и обесценивание безграмотными надстройками и недоброкачественными ремонтами может привести к тому, что наш город утратит свою мировую славу. Между тем эту славу легко повысить путем умелых реставраций и восстановления исторических и художественных памятников, испорченных в предреволюционные годы. Так, например, можно легко завершить замысел К. И. Росси по оформлению площади Ломоносова. Завершение ансамбля во много раз повысит градостроительное значение площади.
<…>Для развития туризма большое значение имеет сохранение пригородов Ленинграда с их уникальными дворцами и парками. Между тем ценнейшие дворцовые комплексы в Знаменке, Михайловке с вековыми парками полностью заброшены. Со времени войны дворцовые здания стоят без крыш, т.е. без минимального консервационного ремонта. Стоят без крыш Баболовский дворец и Китайский театр в Пушкине, гибнет исключительно интересный и своеобразный ансамбль Ратной палаты и Федоровского городка, решенный в формах древнерусского зодчества. Не восстановлен после войны и разрушается усадебный дом с парком в Антропшино. До сих пор не проведены даже минимальные консервационные ремонты по целому ряду парковых сооружений и павильонов в Пушкине, Петергофе, Гатчине.
Решением Совета Министров РСФСР от 24 мая 1966 г. на Ленгорисполком возложена большая ответственность за охрану памятников, которая признана делом государственной важности.
Ленгорисполкому поручено создать в городе заповедные места (районы), а также охранные зоны . Проект зон предложено согласовать с Министерством культуры РСФСР и Центральным Советом общества по охране памятников истории и культуры .
Директивное распоряжение Правительства полностью игнорируется Ленгорисполкомом. Проект охранных зон, разработанный в составе генерального плана города, одобренного в 1964 году, не вводится в действие. Не принимается и проект зон, разработанный комиссией общества охраны памятников истории и культуры и одобренный общественностью на заседании Совета общества 18 января 1967 г.
Не выполняется и указание правительства о необходимости согласования с общественностью и Центральным Советом общества по охране памятников истории и культуры всех проектов, затрагивающих интересы исторически сложившихся районов города . Как видно на примере дома № 2 на площади Коммунаров (№ 16 по пр. Римского-Корсакова) в Ленинграде все еще имеет место принятие необоснованных волевых решений<…>.
Мы считаем необходимым довести до сведения ЦК КПСС, Советского правительства и органов прокуратуры о ненормальном положении с делом охраны исторических и художественных памятников в Ленинграде и о недопустимом отношении некоторых организаций к существующему фонду жилых и общественных зданий.
Одновременно просим:
1. Предложить Ленинградскому областному и городскому комитетам партии и Ленгорисполкому усилить работу по охране исторических и художественных памятников Ленинграда.
2. Обязать Ленгорисполком в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 мая 1966 г. создать в Ленинграде заповедные районы и охранные зоны, не допуская уменьшения территории зон сравнительно с проектом 1964 г., разработанным в составе генерального плана города.
3. Обязать Городской комитет партии наладить работу Добровольного общества по охране памятников истории и культуры и привлекать его к обсуждению вопросов, связанных с сохранением всех архитектурных и исторических ценностей.
4. Уделить внимание в газетах «Ленинградская правда» и «Вечерний Ленинград» вопросам истории города и пропаганде самого бережного отношения к памятникам национальной культуры.
5. Поручить прокурору города расследовать случаи уничтожения ценных в историческом и художественном отношениях сооружений Ленинграда, а также случаи уничтожения ценной внутренней отделки жилых и общественных зданий при капитальных ремонтах (часть адресов приведена в настоящем письме).
6. Обязать Ленгорисполком восстановить в прежнем виде дом 2 на площади Коммунаров (№ 16 по пр. Римского-Корсакова) с отнесением расходов на счет виновников в пределах, обусловленных законом.
22 апреля 1967 г.
Что писали критики архитектуры 97 лет назад
«Очень хорошо характеризовал <петроградское строительство> Достоевский: «право не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это – множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительною архитектурою фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непременно оль-де-бёфы и непременно пять этажей и все это в одном и том же фасаде!.
С прелестным юмором изображал Достоевский требования, обычно предъявляемые архитектору капиталом, пытающимся совместить свой эстетический снобизм с непоколебимыми требованиями мощны: «дожевское окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому – чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну, а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать…».
Какое забавное пророчество: неужто Достоевский предвидел, что через сорок лет после его ядовитой критики на Невском действительно возникнет для нужд банкирского дома воспроизведение венецианского Дворца Дожей!».
Журнал «Зодчий», орган Императорского Петроградского общества архитекторов (№ 42, 10 октября 1914 года)