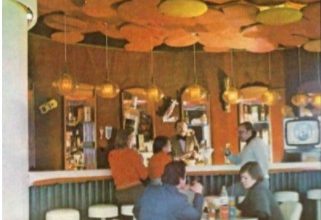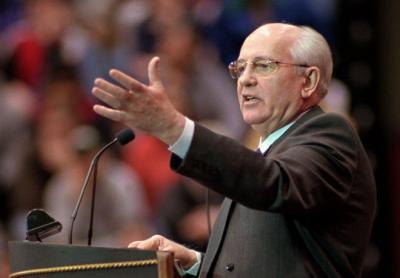
Личность террориста – это постоянное, непрерывное психологическое движение. Такие внешние характеристики, как целостность или целеустремленность, – всего лишь фиксированные моменты психологической неустойчивости, подчас достигающей даже уровня ненормальности. Первый вопрос, обычно возникающий у людей в отношении террористов, прост: а не сумасшедшие ли они. Ответить на этот вопрос не так-то просто.
Вообще-то говоря, признать их полностью здоровыми бывает трудно. И хотя отечественные правозащитники в свое время пытались в меру всех своих сил защищать упрятанного в психиатрическую лечебницу капитана С. Ильина, пытавшегося осуществить покушение на жизнь советского лидера Л. И.
Брежнева, судя по всему, все-таки такое решение было наиболее адекватным. Подобная, заведомо обреченная на неудачу акция, да еще предпринятая в одиночку, никак не свидетельствует о достаточной психической сохранности такого человека. Точно так же трудно признать психически полноценным человеком А. Шмонова, стрелявшего снизу вверх из охотничьего ружья в другого советского лидера, М.
Горбачева, прямо из рядов праздничной демонстрации на Красной площади 7 ноября 1990 года (Горбачев в это время занимал свое место на трибуне Мавзолея). Охотничий обрез в ситуации массового скопления людей, когда каждый четвертый или даже третий окружающий тебя человек – это обязательно либо милиционер, либо сотрудник спецслужб, больше напоминает орудие самоубийства, чем инструмент претендующего на успех террористического акта. В. Соснин считает: “Большинство исследователей мотивации терроризма отмечают, что явная психопатология среди террористов достаточно редкая вещь, и для этого утверждения есть основания.
Вместе с тем можно выделить ряд личностных предрасположенностей, которые часто становятся побудительными мотивами вступления индивидов на путь терроризма: сверхсосредоточенность на защите своего “Я” путем проекции с постоянной агрессивно-оборонительной готовностью; недостаточная личностная идентичность, низкие самооценки, элементы расщепления личности; сильная потребность в присоединении к группе, т. е. в групповой идентификации или принадлежности; переживание большой степени социальной несправедливости со склонностью проецировать на общество причины своих неудач; социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине общества и потери жизненной перспективы. При этом нельзя сказать, что приведенный набор этих характеристик является каким-то обобщенным психологическим профилем личности террориста”[152].
В конечном счете, психическая нормальность или, напротив, ненормальность – достаточно условные, статистические понятия. Не вполне адекватный человек – не значит маньяк. Нет, бывает, конечно, и так, что в основе терроризма лежит откровенно патологическая тяга к насилию, убийству. Среди террористов встречаются откровенные маньяки-человеконенавистники.
Убийство, само по себе, всегда противно человеческой природе, и если оно все же осуществляется, то убийца испытывает не только психическое, но и сильнейшее физиологическое потрясение. Так, например, по признанию ряда известных террористов, даже в их практике иногда дело доходило до того, что они испытывали оргазм, когда убивали. “От того, что отнимаешь чью-то жизнь, чувствуешь себя Богом”, – это из признаний одного из террористов. Однако даже самое обоснованное признание террориста душевнобольным ничего не проясняет.
“Разумеется, среди преступников, прибегающих к насилию, встречаются и лица с психопатологическими отклонениями”. Однако если концентрироваться только на этом факте, то мы ничего не поймем. Тогда “нам придется признать, что и “снайпер”, залезающий на крышу дома и стреляющий оттуда по людям, прежде чем полиция застрелит его самого, и субъект, зверски нападающий на женщин и наносящий им тяжелые увечья, страдают серьезными душевными заболеваниями”[153]. Ну, и что же дальше.
Ведь сама по себе такая констатация еще ничего не объясняет. Понятно, что, при всех нюансах, поведение террориста обычно представляет собой некоторую яркую и вполне очевидную разновидность асоциального отклоняющегося (девиантного) поведения. По общей оценке, такое поведение в той или иной мере является аномальным и неизбежно включает в себя некоторый патологический компонент. Разумеется, это ни в коей мере не означает признания террористов просто “сумасшедшими” – подобный, слишком облегченный путь откровенно неверен и непродуктивен для понимания психологии террориста.
Однако общепризнанной является констатация того, что террорист – личность не то чтобы не вполне нормальная, а акцентуированная. Это означает, что террорист – в целом, клинически и психологически, – нормальный человек, однако определенные черты личности у него акцентуированы, то есть выражены необычно сильно, ярко, не вполне “нормально”. Это прекрасно чувствовал еще Ч. Ламброзо, разделявший откровенно преступный (дегенеративный, атавистический) антропотип и отличный от него так называемый нравственно порочный психотип “привычного преступника”.
Террориста нельзя отнести к откровенно преступному типу. В большинстве случаев это все-таки далеко не маньяк, не тот “прирожденный преступник”, который самореализуется, совершая привычные атавистические преступления. Тем более что подобный тип достаточно редко встречается даже в откровенно криминальной среде – основную массу такой преступности составляют так называемые криминалоиды, случайные преступники без существенных признаков явной дегенерации. Террорист по своему психическому складу наиболее близок к тому, то Ч.
Ламброзо называл “привычным преступником” – “не случай обусловливает преступление привычных преступников, а они сами создают внешние события, обусловливающие преступление”. Это вполне соответствует тому, что во времена Ч. Ламброзо определялось специалистами как “моральное помешательство”. Клинико-психологически это абсолютно соответствует тому, что принято называть эпилептоидной психопатией – такой конституциональной деформацией личности, при которой личность отличается неспособностью различать добро и зло, часто путая их местами.
В современной трактовке к этому приближается и понятие социопатии, хотя мы и не считаем вполне правомерным такое выделение чисто социального, прежде всего функционального расстройства. Термин “психопатия” впервые был введен И. Балинским в 1886 году для обозначения пограничных между нормой и патологией врожденных психических расстройств, при которых отсутствует прогредиентность точения. Впоследствии В.
Кандинский был склонен считать часть психопатий своеобразными формами психического уродства. По его мнению, подобно врожденным физическим уродствам, существуют отклонения от нормального типа и в развитии личности, особенно в формировании характера. Психопатии – это такие аномалии характера, которые, по словам П. Ганнушкина, “определяют весь психический облик индивидуума, накладывая на весь его душевный склад свой властный отпечаток”, “в течение жизни.
не подвергаются сколько-нибудь резким изменениям” и “мешают. приспособляться к окружающей среде”. Эти три критерия были обозначены О. Кербиковым как тотальность и относительная стабильность патологических черт характера и их выраженность до степени, нарушающей социальную адаптацию.
Степень проявления психопатий, как писал П. Ганнушкин, “представляет прямо запутывающее богатство оттенков – от людей, которых окружающие считают нормальными, – и до тяжелых психотических состояний, требующих интернирования”[154]. В последние годы в судебно-психиатрической экспертизе получил распространение термин “глубокая психопатия”: им обозначают наиболее сложные случаи, в которых на высоте декомпенсации возникают психотические расстройства или исключающая вменяемость утрата способности к “вероятностному прогнозированию своей деятельности и соответствующей коррекции своего поведения”[155]. Это справедливо: террористы действительно не вполне адекватно прогнозируют последствия своих действий.
Однако и это объясняет далеко не все. “С самого начала становления учения о психопатиях возникла практически важная проблема – как разграничить психопатии как патологические аномалии характера от крайних вариантов нормы. Еще в 1886 году В. Бехтерев упоминал о “переходных степенях между психопатией и нормальным состоянием”, о том, что “психопатическое состояние может быть выражено в столь слабой степени, что при обычных условиях оно не проявляется”.
В 1894 году бельгийский психиатр Dalemagne. выделил наряду с “desequilibres”, т. е. “неуравновешенными” (термин во французской психопатии того времени, аналогичный “психопатиям”), еще и “desequilibrants”, т.
е. “легко теряющих равновесие”. Подобные случаи Е. Kahn (1928) назвал “дискордантно-нормальными”, П.
Ганнушкин – “латентными психопатиями”[156]. Затем было предложено много других наименований, но наиболее устоявщимся можно считать термин К. Леонгарда “акцентуированная личность”. Это название подчеркивает, что речь идет все-таки о крайних вариантах нормы, а не об откровенной патологии – максимум, о ее зачатках, “предпсихопатиях”, и что эта крайность проявляется в усилении, акцентуации отдельных черт.
Совершенно понятно, что в данном случае речь идет, прежде всего, об акцентуациях характера, а не всей личности. Именно характерология выступает в качестве основы личностных типов террористов, причем многие собственно личностные качества надстраиваются над соответствующей характерологией позднее. “Патологический компонент” в психике террориста находится на своеобразной условной шкале, где-то между явной акцентуацией характера, на одном полюсе, и психопатией, как иногда называется, эпилептоидного типа – на другом полюсе. Наиболее сохранные террористы отличаются “всего лишь” выраженной акцентуацией, наименее сохранные – тяжелой психопатией.
В первых случаях акцентуированные черты часто компенсированы, могут проявляться лишь в определенные периоды времени и в определенных ситуациях. Поэтому при обследовании после задержания за совершенный террористический акт или хотя бы за его попытку эти черты могут и не проявляться. Так, например, они практически никак не проявлялись у молодых людей из группы “Р. В.
С”, задержанных в 1999 году в Москве за подрыв памятника Николаю И в Подмосковье и попытку подрыва памятника Петру I на Москва-реке. В отличие от случаев акцентуации, тяжелая психопатия более наглядна даже в отсутствие конкретного террористического события. А. Личко так описывал ее явные проявления: компенсаторные механизмы крайне слабы, едва намечаются или бывают лишь парциальными, охватывая только часть психопатических особенностей, но зато достигают такой гиперкомпенсации, что сами выступают уже как психопатические черты.
Компенсации всегда неполные и непродолжительные. Декомпенсации легко возникают от незначительных причин и даже без видимого повода. На высоте декомпенсаций картина может достигать психотического уровня. Нарушения поведения могут достигать уровня уголовных преступлений, суицидных актов и других действий, грозящих тяжелыми последствиями для самого психопата или его близких.
Обычно имеет место постоянная и значительная социальная дезадаптация. Рано бросают учебу, почти не работают, живут за счет других или государства. Очевидна неспособность к поддержанию семейных отношений – связи с семьей разорваны или натянуты из-за постоянных конфликтов или носят характер патологической зависимости психопата от кого-либо из членов семьи или последних от психопата. Самооценка характера неправильная или отличается парциальностью – подмечаются лишь некоторые черты, особенно проявления патологической гиперкомпенсации.
Критика к своему поведению заметно снижена, а на высоте декомпенсаций может полностью утрачиваться.
Статья взята с: http://ezolib.ru