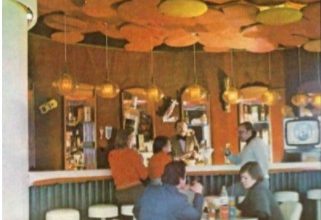Одним из главных, завершающих этапов разработки ядерного оружия являются полигонные испытания. Они проводятся не только для определения характеристик мощности и проверки правильности теоретических расчётов по вновь создаваемым и модернизируемым образцам, но и для подтверждения годности боезапаса.
Одним из главных, завершающих этапов разработки ядерного оружия являются полигонные испытания. Они проводятся не только для определения характеристик мощности и проверки правильности теоретических расчётов по вновь создаваемым и модернизируемым образцам, но и для подтверждения годности боезапаса.
Для первой ядерной бомбы РДС–1, созданной в СССР, испытания имели особое значение. Во-первых, только они могли дать окончательный положительный ответ на вопрос о работоспособности первого отечественного образца нового оружия, основанного на использовании цепной реакции деления плутония. Во-вторых, трудно переоценить политическое значение данного события. Успешное завершение испытания являлось фактически не только первым шагом к прекращению американской монополии на ядерное оружие, чреватой для всего человечества опасностью безвозмездного и одностороннего его применения, но и началом того пути, на котором был обеспечен военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира — США и СССР.
Подготовка к испытанию РДС–1 началась задолго до завершения её разработки и велась с особой тщательностью, что объяснялось стремлением получить в ходе данного эксперимента как можно больший объём информации о работоспособности ядерного заряда и его поражающих факторах, а также обеспечить максимум гарантий для исключения любых недоразумений, ошибок или срывов. Слишком многое было поставлено на карту.
Процесс подготовки к испытанию первой советской ядерной бомбы включал выполнение исключительно широкого спектра работ, одна часть которых была связана непосредственно со всеми многочисленными аспектами её разработки и отработки конструкции в целом, а другая — с созданием специального полигона, его обустройством, научно-методическим и приборным обеспечением необходимых физических измерений, запланированных в программе испытаний.
Начальный этап работ по подготовке полигона и осуществлению намеченных физических измерений был поручен Институту химической физики(ИХФ). Уже в апреле 1946 г. правительственным постановлением ИХФ было дано задание на проведение комплекса научно-исследовательскихи экспериментальных работ по созданию методик и аппаратуры для изучения быстропротекающих процессов, происходящих при ядерном взрыве, и действия его поражающих факторов.
В целях выполнения поставленных задач в ИХФ был организован специальный сектор, который возглавил канд. физ.-мат. наук Михаил Александрович Садовский, ставший в 1968 г. академиком.
Как он сам вспоминает, эта работа начиналась практически с нуля: „Все разговоры о том, что какие-то сведения о ядерном взрыве были добыты у американцев, являются абсолютной чепухой. Ничего, кроме газетных статей, в которых попадались сведения о том, какие поражающие эффекты взрыва наблюдались в Хиросиме и Нагасаки, у нас не было, и наша задача заключалась в том, чтобы, основываясь на общих положениях науки и отрывочных газетных данных, попытаться восстановить количественную картину атомного взрыва… Не было у нас ни осциллографов, ни луп времени, ни разработанных ионизационных измерителей, пригодных для работы в полевых условиях… Надо было делать всё своими руками. Николай Николаевич Семёнов взял на себя главное — разработку методики изучения взрыва, которую естественно было начать с создания представления о свойствах и развитии процесса атомного взрыва. Он привлёк к решению этих задач не только весь коллектив учёных ИХФ, но и крупных специалистов из других НИИ, в том числе ГОИ, ВЭИ, военных академий и др.“ (Дубовицкий Ф.И. Очерки истории. Черноголовка : Институт химической физики. 1992)
Безусловно, наличие информации о развитии ядерного взрыва могло бы существенно облегчить задачу, поставленную перед учёными и специалистами ИХФ. Поэтому в мае 1946 г. на заседании Научно-технического совета (НТС) Первого главного управления (ПГУ) при Совете Министров СССР обсуждался вопрос о мероприятиях по подготовке к наблюдению взрывов, проводившихся американцами. В том случае, разумеется, если на этих испытаниях присутствовали советские специалисты.
В обсуждении данного вопроса на НТС участвовали Б.Л. Ванников, И.В. Курчатов, М.Г. Первухин, А.Ф. Иоффе, А.И. Алиханов, Н.Н. Семёнов, Ю.Б. Харитон, В.А. Малышев, А.И. Лейпунский, И.К. Кикоин, Б.С. Поздняков.
В сообщении, сделанном Н.Н. Семёновым , предлагались возможные способы оценки температуры излучаемой поверхности, давления в фронте ударной волны, длительности фазы свечения и некоторых других параметров, характеризующих развитие взрыва.
Через три месяца после выхода правительственного постановления, обязавшего ИХФ приступить к работам, связанным с проведение полигонных испытаний, т. е. в июле 1946 г., на заседании НТС ПГУ был заслушан отчёт Н.Н. Семёнова о результатах уже проведённых в этой связи мероприятий.
НТС одобрил представленный план НИОВ и отметил, что ИХФ осуществлён большой объём необходимых теоретических расчётов и определён перечень приборов и сооружений, требуемых для проведения полигонного испытания.
В целом результаты первого обсуждения хода развернувшейся подготовки к первому ядерному эксперименту вселяли уверенность, что вопросы аппаратурного и методического обеспечения физических измерений будут успешно решены.
Место для ядерного полигона — учебного полигона № 2 Министерства вооруженных сил (в последующем Министерства обороны (УП-2 МО) — было выбрано в прииртышской степи, примерно в 170 км западнее Семипалатинска. Этот район Казахстана представляет собой безводную степь с редкими заброшенными и пересохшими колодцами. Территория, отведённая под полигон, являлась равниной диаметром примерно 20 км, окружённой с трёх сторон — южной, западной и северной — невысокими горами. На востоке этого пространства находятся небольшие холмы.
Проектные работы по полигону выполнялись по техническим заданиям ИХФ в специальном проектном институте ПГУ — ГСПИ-11. Возводился полигон инженерными войсками Вооружённых Сил. Председателем Государственной комиссии по приёмке полигона был М.Г. Первухин.
На полигоне дислоцировалась воинская часть, штаб которой располагался вниз по течению Иртыша — в 60 км от самого полигона и в 130 км от Семипалатинска.
Связь полигона № 2 с Семипалатинском обеспечивалась по реке и по грунтовой грейдерной дороге. Позже к воинской части была подведена железнодорожная ветка.
В пригороде Семипалатинска — Жана-Семей — располагался аэродром, которым мог пользоваться полигон. Кроме того, в экстренных случаях для приёма срочных грузов и других целей можно было использовать полевой аэродром, располагавшийся непосредственно на территории полигона.
Общий объём капитальных вложений в строительство полигона к 1949 г. составил 185 млн. руб. (в ценах 1945 г.).
УП-2 МО представлял собой сложную разветвлённую структуру со всеми элементами жизнеобеспечения, соответствующейнаучно-исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений, расположенных на различных площадках. Центральным элементом этой структуры было опытное поле, на котором и должны были разворачиваться главные события — ядерные испытания.
Опытное поле — это круг радиусом 10 км. Оно было оборудовано специальными сооружениями, призванными обеспечить проведение испытаний, наблюдение и регистрацию физических явлений. Опытное поле условно было разделено на 14 секторов. Среди них были два фортификационных и физических сектора; сектор гражданских сооружений и конструкций; сектор различных видов Вооружённых Сил и родов войск, в котором на различном удалении от центра поля в открытом виде, а также в укрытиях различного типа размещались образцы вооружения и военной техники; биологический сектор с подопытными животными.
В секторе гражданских сооружений и конструкций были построены два кирпичных трёхэтажных и несколько рубленых и сборных деревянных домов, участки линии электропередачи, отрезки железной дороги с мостом, участки водопровода и канализации, а также одно промышленное здание, три подземные шахты на глубине 10, 20 и 30 м, имитировавшие метро, и т. п.
Для наблюдения за воздействием ядерного взрыва в секторе авиационной техники были установлены 53 самолёта разных типов, столько же орудий находилось в секторе артиллерийского вооружения. В секторе бронетанковой техники было 25 танков и самоходных артиллерийских установок. Состояние всего, что находилось на опытном поле, после взрыва должно было характеризовать мощность ударной волны и степень поражающего действия светового, проникающего и радиоактивного излучений.
Большую программу работ такого же плана предстояло осуществить и в области исследования поражающего действия нового оружия на живые организмы. Для биологических наблюдений в соответствующем секторе поля было размещено более полутора тысяч животных.
В двух физических секторах, расположенных в северо-восточном и юго-восточном направлениях и предназначенных для определения параметров ядерного взрыва, было построено 15 железобетонных башен высотой 20 м, 2 металлические башни такой же высоты, 17 трёхметровых железобетонных башен, 2 подземных каземата, 2 пульта автоматического управления приборами и командный пункт с программным автоматом.
Для обеспечения физических измерений на полигоне в общей сложности было построено 44 сооружения под различную аппаратуру и кабельная сеть протяжённостью 560 км.
Вся регистрирующая аппаратура физических секторов, насчитывавшая до 200 приборов, размещалась в специально построенных для неё башнях и казематах, имела индивидуальное аккумуляторное питание и приводилась в действие автоматически.
Система автоматики состояла из главного программного автомата, который был установлен на командном пункте. Программный автомат выдавал сигналы времени и включал реле пуска различных приборов в определённое время. Он же подавал импульс тока на запуск системы автоматики подрыва изделия.
Сигналы автомата передавались по кабельным линиям на приборные башни северо-восточного и юго-восточного направлений. Вся система автоматики была дублирована, что в случае отказа автоматики одного из радиусов обеспечивало включение всей аппаратуры автоматикой другого радиуса.
В центре опытного поля была смонтирована металлическая решётчатая башня высотой 37,5 м. Она была предназначена для установки испытывавшегося ядерного заряда изделия РДС–1.
Башня была оборудована грузовым и пассажирским подъёмниками с электрическим управлением. Вблизи башни находилась сборочная мастерская, в которой должны были производиться заключительные операции по сборке шарового заряда, связанные с установкой в центральную часть основного заряда с нейтронным запалом и съёмных элементов конструкции.
На восточной границе опытного поля располагалась площадка „Н“ со зданиями и сооружениями, предназначенными для предварительных операций по сборке изделия перед испытаниями, хранения комплектующих узлов и деталей изделия РДС–1. Здесь же размещалось здание „12П“ — командный пункт полигона. В это здание сходились все линии связи как внутриполигонной, так и внешней, включая правительственную.
Командный пункт представлял собой бетонный каземат, состоявший из двух комнат с застеклённой амбразурой, которая была, в конце концов, защищена земляным валом. В одной из комнат каземата находились автомат управления подрывом заряда, а также автомат управления измерительным комплексом испытательного поля и аппаратура контроля.
В пяти километрах от границы опытного поля, в северо-восточном направлении от его центра, была сооружена площадка „Ш“, на которой размещались система энергообеспечения опытного поля и жилые помещения для личного состава. Во время испытания на площадке „Ш“ находились штаб и пункты обмывки людей и первичной обработки индикаторов.
Как уже упоминалось выше, в 60 км от опытного поля был построен жилой городок (площадка „М“, ныне г. Курчатов), где находились штаб войсковой части, административные, культурно-просветительные и хозяйственные предприятия и учреждения, а также дома для офицеров и их семей.
В полутора километрах от площадки „М“ размещался лабораторный городок, в котором проводились всевозможные исследования, связанные с обеспечением испытаний.
Большую роль в создании и обустройстве УП-2 МО сыграли начальник инженерных войск, маршал М.П. Воробьёв, генерал В.А. Болятко, впоследствии ставший начальником 12 Главного управления Министерства обороны, начальник полигона генерал С.Г. Колесников и др.
Подготовка военных специалистов для обслуживания полигона и проведения измерений поражающих факторов ядерного взрыва была возложена на сформированную в подмосковном Загорске организацию. Ныне — это Центральный научно-исследовательский институт им. В.А. Болятко.
Программа испытаний РДС–1 в основных своих задачах была сформулирована в специальном постановлении Совета Министров СССР от 19 июня 1947 г. № 2142–564. Две главные задачи сводились к следующему: оценке конструкции по коэффициенту полезного использования активного вещества, т. е. к.п.д. ядерного взрыва, и к получению необходимых данных для изучения поражающего и разрушающего действия созданного оружия. Сроки подготовки полигона коррелировались со сроками готовности первой ядерной бомбы к испытаниям.
К январю 1949 г. весь комплекс конструкторских вопросов по РДС–1 был отработан. Об этом свидетельствуют архивные материалы — обоснование конструкции (Ю.Б. Харитон, К.И. Щёлкин, Я.Б. Зельдович), техническое обоснование основных конструкционных элементов и размеров различных узлов (Н.А. Терлецкий, В.Ф. Гречишников), комплекты документации, завизированные Н.Л. Духовым и В.И. Алфёровым.
Особая роль в процессе подготовки завершающего этапа работ по РДС–1 отводилась детальной отработке порядка действий основного и дублирующего составов участников испытания в условиях, максимально приближённых к реальным.
В январе 1949 г. в КБ–11 была составлена программа тренировочных опытов, призванных предварить основной — полигонный. Она включала в себя полный цикл подготовки и проведения последнего.
С этой целью предусматривалось апробирование окончательного монтажа испытуемого изделия в специально оборудованном помещенииКБ–11, где были воспроизведены в натуральную величину сборочные стенды, подъёмная клеть башни, подъездные пути и подъёмно-транспортные сооружения, расположенные около башни на полигоне.
11 апреля 1949 г. в КБ–11 вышел приказ № 055 начальника объекта П.М. Зернова об обеспечении всех подготовительных работ в части предстоявшего испытания на учебном полигоне УП-2 МО.
Данным приказом была сформирована специальная группа в составе 7 чел. Её председателем был назначен первый заместитель главного конструктора КБ–11 К.И. Щёлкин, заместителями начальника группы — Н.Л. Духов и В.И. Алфёров, а членами — В.К. Боболев, А.К. Бессарабенко, А.Я. Мальский и И.А. Назаревский. На эту группу возлагались подготовка как общей программы работ на полигоне, так и инструкций и графиков, касавшихся конкретных направлений действия, проведение тренировочных опытов вначале в КБ–11, а затем на полигоне, осуществление оперативного контроля за ходом подготовки к испытаниям во всех подразделениях и службах КБ–11.
Ход подготовки к испытаниям находился под пристальным и непосредственным контролем со стороны руководства КБ–11 и руководства Урановым проектом в целом.
8 апреля 1949 г. Ю.Б. Харитон и К.И. Щёлкин представили Л.П. Берии доклад, в котором сообщалось о решении всех принципиальных теоретических, конструкторских и технологически задач по РДС–1, а также обосновывалась необходимость получения требовавшегося количеств делящихся материалов. К докладу прилагались Порядок испытания РДС–1 и Программа тренировочных опытов на полигоне. Этими документами предусматривалось проведение подрыва боевого изделия на башне, а также определялись ответственные лица за подготовку и осуществление заключительных операций.
В связи с неопределённостью в вопросе мощности взрыва и недостаточной изученностью механизма воздействия его поражающих факторов на самолёт-носитель решение о проведении опыта в стационарном варианте было на том этапе создания ядерного оружия единственно правильным. Кроме того, при таком решении облегчались условия проведения физических измерений и повышался уровень достоверности полученных сведений.
Технология подготовки опыта предусматривала:
- сборку заряда из взрывчатых веществ, поставленного на полигон в разобранном виде, исключая операции по установке в центральную часть плутониевого заряда и нейтронного инициатора, в здании „32П“, расположенном на площадке „Н“ полигона;
- доставку заряда в мастерскую у башни „1П“ в центре опытного поля;
- монтаж ядерного заряда с нейтронным инициатором;
- передачу изделия группе подрывников, руководимой К.И. Щёлкиным, подъём его на башню, снаряжение электродетонаторами, подключение к схеме подрыва.
Следует отметить, что указанная последовательность работ и распределение обязанностей между руководящими работниками КБ–11 были сохранены до боевого опыта.
Ответственным за сборку заряда из взрывчатых веществ был назначен директор снаряжательного завода № 2 КБ–11 А.Я. Мальский. За оснащение изделия электрооборудованием (электродетонаторами и автоматикой их подрыва), подготовку и проверку автоматики и линии подрыва отвечал заместитель главного конструктора В.И. Алфёров, за снаряжение изделия плутониевым зарядом — заместитель главного конструктора КБ–11 Н.Л. Духов. Помощником Н.Л. Духова по физической части стал заведующий лабораторией КБ–11 Г.Н. Флёров. Ответственным за непосредственное снаряжение изделия детонаторами и его подрыв был назначен заместитель начальника лаборатории КБ–11С.Н. Матвеев.
По решению Б.Л. Ванникова и И.В. Курчатова ответственность за всю организацию работ по подготовке РДС–1 к испытанию возлагалась на Ю.Б. Харитона. Соответственно, и полномочия, которыми наделялся главный конструктор, были максимально широкими. В частности, ему предоставлялось право единолично решать вопросы о снятии с опыта любых приборов и приспособлений, способных в какой-либо мере и на каком-то из этапов повредить или помешать подрыву РДС–1.
Все вышеперечисленные лица должны были проводить приёмку в КБ–11 узлов и деталей изделия РДС–1, необходимых для заключительных операций, обеспечивать руководство их доставкой к месту испытания, нести ответственность за хранение и сборку изделия на полигоне вплоть до сдачи своей работы Правительственной комиссии.
За период с весны до лета 1949 г. в адрес главного администратора Уранового проекта Л.П. Берии было направлено несколько докладных записок, в которых сообщалось о состоянии дел по вопросу „выхода“ на полигонные испытания. Очередной доклад, подписанный И.В. Курчатовым и Ю.Б. Харитоном, был направлен 15 апреля. В нём отмечалось, что к этому времени были решены все принципиальные и конструктивные вопросы по разработке РДС–1. В частности, были созданы теории сходящейся детонационной волны во взрывчатых веществах и ударной волны в металлах, теория сжимаемости металлов при давлениях в несколько миллионов атмосфер и теория к.п.д., теория неполного взрыва, умножения нейтронов и расчёта критической массы и т. д. Была также в основном завершена технологическая отработка изготовления РДС–1, в том числе и технология изготовления деталей из взрывчатых веществ.
На основе данного доклада был разработан и утвержден Л.П. Берией план действий на завершающей стадии подготовки к полигонному эксперименту. Его авторами были Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, К.И. Щёлкин и Г.Н. Флёров. Этот план предусматривал:
- расчёт умножения фона в полусфере плутония для экспериментального определения фона в натурном заряде. Ответственные за выполнение — Я.Б. Зельдович и Д.А. Франк-Каменецкий, срок выполнения — до 30 июня 1949 г.;
- подготовку опыта по исследованию размножения нейтронов на базе № 10 силами КБ–11 и базы № 10 (завод № 817, ныне — комбинат„Маяк“);
- изготовление на базе № 10 плутониевых сфер и проведение измерений нейтронного фона. Ответственный за выполнение — Б.Г. Музруков;
- осуществление проверки умножения нейтронов в окончательно собранном заряде бомбы. Опыт проводился в КБ–11. Ответственный за подготовку конструкции бомбы — Н.Л. Духов, за измерение нейтронов — Г.Н. Флёров.
В период с 4 по 6 июня 1949 г. в КБ–11 И.В. Курчатов и Б.Л. Ванников совместно с М.Г. Мещеряковым, Ю.Б. Харитоном, П.М. Зерновым и А.П. Александровым, проанализировав состояние всех вопросов, связанных с созданием первого ядерного заряда, сделали и представили Л.П. Берии 15 июня заключение о завершённости конструкторской и технологической разработки заряда и обоснованности его технических характеристик. Оставалось только закончить опыты по критмассовым измерениям и определению ядерных констант, по результатам которых можно было бы установить окончательные размеры и массу плутониевого ядра. Заметим, что первые расчётно-экспериментальные оценки критической массы плутония были проведены весной 1949 г.
Во время июньского совещания представителям ПГУ был представлен макет РДС–1, изготовленный в металле в одну пятую натуральной величины. Отвечали за его создание Н.Л. Духов и А.К. Бессарабенко. Изготавливался макет на опытном заводе № 1 КБ–11. Макет был одобрен, и была дана санкция на его отправку в Москву — в Спецкомитет.
В решении комиссии, принятом по вопросу о порядке и сроках отправки РДС–1 на полигон УП-2 МО, в частности, говорилось, что изделие из плутония и два нейтронных инициатора будут отправлены в специальном вагоне по железной дороге до конечной станции и от неё до полигона — легковыми машинами. Два собранных заряда из взрывчатых веществ намечено было отправить также по железной дороге воинским транспортом до конечной станции, а дальше, до полигона, — грузовыми машинами. Часть груза было предусмотрено отправить на полигон самолётом.
Порядок перевозок узлов и деталей изделий РДС–1 и различного оборудования, обеспечивающего испытания, был определён инструкцией, разработанной с участием П.Я. Мешика, Н.И. Павлова и Детнёва.
На июньском совещании было принято предложение научно-технического руководства КБ–11 о том, что выбранная масса плутония должна обеспечить к.п.д. заряда не менее 7%. Для выполнения этого условия комбинату № 817 было выдано задание на изготовление ядерного заряда с некоторым запасом по массе, что создавало возможность его доводки путём снятия избытка плутония по внутренним полусферам плутониевых деталей.
В июне 1949 г. на Урал выехала группа сотрудников КБ–11. Она должна была определить окончательную массу плутония. В составе группы были Г.Н. Флёров и сотрудники его лаборатории, а также теоретики КБ–11 Я.Б. Зельдович, Д.А. Франк-Каменецкий, Н.А. Дмитриев, В.Ю. Гаврилов и др. Часть оборудования была привезена из КБ–11, часть смонтирована уже на месте, на комбинате № 817. К этому времени здесь уже был изготовлен плутониевый заряд с соответствующим технологическим припуском. С этой заготовкой, установленной в модельную сборку, группой Г.Н. Флёрова были проведены измерения коэффициента умножения нейтронов.
Один из исполнителей этих работ Ю.С. Замятнин вспоминает: „Установка для измерений была смонтирована в просторном помещении и состояла из металлической подставки-станины, на которой размещались нижние полусферы отражающих урановых оболочек и обе полусферы из плутония, покрытые тонкой полусферой из урана для защиты от механических повреждений, системы блоков, позволяющей с помощью ручной авиационной лебедки поднимать и опускать верхние полусферы урановых оболочек, всеволнового детектора нейтронов и регистрирующей электронной аппаратуры, световой и звуковой сигнализации скорости счёта. И.В. Курчатов всё это устройство с блоками и тросиками в шутку называл „египетской техникой“. В центре плутониевых полусфер размещался нейтронный источник. Предварительно было проверено постепенным сближением плутониевых полусфер, что вся эта система, как и следовало из расчётов, находится в подкритическом состоянии. Основным содержанием эксперимента на каждом его этапе было определение коэффициента умножения нейтронов по измерению скорости счёта нейтронного детектора“.
Расчёты, проведённые группой Я.Б. Зельдовича на основании опытов Г.Н. Флёрова, позволили определить окончательную массу заряда, обеспечивающую приемлемые значения к.п.д., другие параметры ядерного взрыва.
27 июля 1949 г. на комбинате № 817 состоялось совещание. В нём участвовали И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, Б.Г. Музруков, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, Д.А. Франк-Каменецкий и Г.Н. Флёров. Было принято решение об окончательной массе плутониевого заряда и порядке доработки изготовленного изделия
5 августа была проведена приёмка ядерного заряда. Акт об этом подписали Ю.Б. Харитон, А.А. Бочвар и В.Г. Кузнецов. Паспорт на детали изделия подписали Е.П. Славский, И.В. Курчатов, А.А. Бочвар и др.
Детали плутониевого заряда были упакованы в специальную тару и отправлены литерным поездом, 8 августа они поступили в КБ–11. Здесь в ночь с 10 на 11 августа была произведена контрольная сборка изделия с плутонием в целях изучения процесса прохождения быстрых нейтронов через реальную конструкцию ядерного заряда. Во время контрольной сборки непрерывно проводились измерения нейтронного и гамма-излучений. Проведённые измерения показали, что коэффициент умножения нейтронов возрастает в ожидавшихся пределах. Это ещё раз подтвердило соответствие РДС–1 техническим требованиям и его пригодность для полигонного испытания.
После демонтажа детали плутониевого заряда были тщательно осмотрены, упакованы и подготовлены к отправке на полигон по железной дороге. Это было одной из последних операций, проведённых в КБ–11 по подготовке первой ядерной бомбы к испытаниям.
Несколько раньше, в соответствии с решением июньского совещания в КБ–11, были изготовлены и отправлены на полигон пять боевых и два тренировочных заряда из взрывчатых веществ. Решение об отправке пяти боевых комплектов зарядов взрывчатых веществ при одном плутониевом страховало от непредвиденны случайностей, могущих привести к порче зарядов при транспортировании, хранении и работе на полигоне.
В июне-июле 1949 г. на полигон были направлены две группы работников КБ–11 со вспомогательным оборудованием и хозяйственным инвентарём. 24 июля сюда прибыла группа специалистов во главе с П.М. Зерновым, которая должна была принимать непосредственное участие в подготовке ядерного заряда к испытаниям.
21 августа на полигон прибыл эшелон с деталями плутониевого заряда и четырьмя нейтронными инициаторами. Тем же поездом прибыла и группа ведущих учёных КБ–11, среди которых были Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, Г.Н. Флёров. 21 августа прибыли научный руководитель опыта И.В. Курчатов и член Специального комитета А.П. Завенягин.
К 26 августа на полигоне собрались все участники испытания и члены Правительственной комиссии под председательством М.Г. Первухина.
Следует отметить, что комиссия, в которую входили П.М. Зернов, П.Я. Мешик, В.А. Болятко, М.Г. Мещеряков, К.И. Щёлкин, М.А. Садовский, А.Я. Свердлов, генерал-лейтенант М.Н. Тимофеев, генерал-лейтенант медицинской службы А.И. Бурназян, генерал-майор С.Г. Колесников,генерал-майор авиации Г.О. Комаров и главный инженер Государственного специального проектного института (ГСПИ-11) В.В. Смирнов, собралась на полигоне значительно раньше — 26 июля. В задачу этой комиссии входила организация работ по завершению строительства и подготовке всех объектов полигона к эксперименту.
Круг задач, решаемых данной комиссией, был достаточно широким. К примеру, 27 июля, т. е. на следующий день после прибытия, комиссия рассмотрела на дневном заседании вопрос о формировании экспертных комиссий по проверке готовности зданий и сооружений полигона к эксплуатации. В частности, это относилось к площадке „Н“ и опытному полю. На вечернем заседании был заслушан начальник строительствагенерал-лейтенант М.Н. Тимофеев по вопросу о сроках завершения всех строительных работ.
Заседание комиссии, состоявшееся 4 августа, было посвящено обсуждению плана тренировочных испытаний секторов и КБ–11. Данным планом предусматривалось в течение двухнедельного срока, начиная с 8 августа, провести:
- тренировочные испытания автоматического управления приборами физического сектора и изделия;
- контрольные сборки изделия в целях отработки приёмов монтажа, подключения аппаратуры и коммуникационных линий с подъёмом изделия на башню;
- две репетиции по физическому и биологическому, а также по инженерному и вооруженческому секторам;
- отработку мероприятий по проведению соответствующих воздушных наблюдений и работе служб безопасности;
- общую генеральную репетицию с участием всех секторов, а также охраны, службы безопасности, связи и других служб обеспечения.
Решением данного совещания Правительственной комиссии заместитель директора РИАН И.Е. Старик был прикомандирован к полигону на период испытаний для осуществления научного руководства радиохимической лабораторией. Руководство и наблюдение за всеми тренировочными работами было возложено на П.М. Зернова, П.Я. Мешика и В.А. Болятко, с которыми непосредственное руководство полигона должно было согласовывать все распоряжения, касавшиеся тренировочных опытов.
С 27 июля по 5 августа комиссия под председательством М.Г. Первухина провела 9 заседаний.
В акте комиссии от 5 августа было сделано заключение о полной готовности полигона к 10 августа и предложено руководству полигона и КБ–11провести в течение 15 дней детальную отработку операций по сборке и подрыву изделия, а также проверку степени взаимодействия всех организаций и служб, участвующих в предстоящем опыте. После принятия данного решения более чётко определилась дата проведения первого в СССР ядерного взрыва — один из последних дней августа 1949 г.
В соответствии с заключением Правительственной комиссии с 10 по 26 августа была проведена серия репетиций. Всего их было десять. В их ходе были задействованы аппаратура управления полем и пульт подрыва изделия с кабельной линией.
Так, 10 и 11 августа было проведено по три репетиции по полной программе с включением автоматики изделия и аппаратуры поля.
13 августа в тренировочных работах вновь по полной программе была подключена автоматика изделия, но аппаратура поля не подключалась.
18 и 22 августа были проведены две репетиции — очередная и генеральная по полной программе — при включенной автоматике изделия, аппаратуры поля и регистрирующих осциллографов. В ходе этих учений, проводившихся под кодовым обозначением „Вперёд“, отрабатывался полный цикл подготовки РДС–1 к подрыву, включавший сборку изделия, за исключением установки плутониевого заряда, подъём его и автоматики подрыва на грузовую площадку башни, расположенную на 30-м отметке, контрольную проверку линии и автоматики подрыва, снаряжение изделия электродетонаторами.
Первый из этих опытов проводился с зарядом, доставленным на полигон из КБ–11 в собранном виде. При осуществлении генеральной репетиции, проведённой 22 августа, ядерный заряд, так же как и заряд, предназначенный для боевого подрыва, собирался на полигоне.
Выбор зарядов для боевого изделия и генерального тренировочного опыта был проведён 19 августа из четырёх комплектов, доставленных на полигон россыпью. Отбор проводили К.И. Щёлкин, А.Я. Мальский и начальник ОТК завода № 2 КБ–11 А.Я. Титов. За основные критерии принимались размеры и плотность деталей из взрывчатки, результаты контрольных испытаний, проведённых в КБ–11, и расчётная разновременность по фокусирующим элементам.
В период между тренировочными работами, проведёнными 18 и 22 августа, согласно решению комиссии, возглавляемой М.Г. Первухиным, были проведены профилактическая ревизия пульта управления полем и десятикратное его задействование по полному циклу.
Проведённые проверки подтвердили нормальную работу автоматики. В ходе операции „Вперед“ изделия после работ с ними на башне спускались вниз, перевозились на специально подготовленную площадку, устанавливались там на подставку высотой 3,5 м и подрывались по штатной программе. После взрыва оставались алюминиевые керны, устанавливавшиеся в заряд вместо центральных частей. По форме обжатия их поверхности делалось заключение о качестве сборки изделий.
Отстрелы макетов подтвердили хорошее качество сборки зарядов и монтажа спецоборудования изделия, выполненных в условиях полигона, а также безотказность системы автоматики и линии подрыва, готовность всех служб к полигонному испытанию первой ядерной бомбы.
Каждый этап подготовительных работ проводился в строгом соответствии с конструкторской и нормативно-технической документацией, подготовленной для проведения боевого опыта. Результаты всех работ оформлялись актами, которые предъявлялись на утверждение руководству испытаний. Так, например, завершив все подготовительные работы к операции „Вперед“, К.И. Щёлкин, А.Я. Мальский и С.Н. Матвеев составили акт от 2 августа 1949 г. о готовности к проведению этих работ. Акт был согласован с научным руководителем полигона М.А. Садовским — руководителем специального сектора ИХФ, затем направлен М.Г. Первухину с просьбой разрешить осуществление тренировочных опытов на площадке „П“ в 2,5 км от сборочного здания „32П“ площадки „Н“.
На подлинном акте, хранящемся в архиве ВНИИЭФа, сохранилась резолюция М.Г. Первухина, сделанная 4 августа 1949 г.: „Разрешить“.
Также по актам проводились приём и передача зарядов от одной бригады сборщиков другой. К примеру, один из актов от 20 августа 1949 г., подписанный сдающими изделие А.Я. Мальским и М.А. Квасовым и принимающими его С.Н. Матвеевым и Г.П. Ломинским, свидетельствует о сборке заряда взрывчатых веществ в здании „32П“ и передаче его В.И. Алфёрову для проведения дальнейших работ. В данном акте отмечается, что сборка заряда взрывчатых веществ была произведена с отклонением от требований конструкторской документации, что привело к необходимости повторной сборки.
Документально фиксировались не только результаты всех работ, связанных с подготовкой изделия и аппаратуры к тренировочным опытам, но и всевозможные недостатки, упущения, замечания. Показательной в этом отношении является докладная записка В.И. Алфёрова о 16 августа на имя П.М. Зернова и К.И. Щёлкина. Она посвящена анализу результатов первой части операции „Вперед“. Отметив, что „накладок технического порядка не было“, Владимир Иванович счёл необходимым обратить внимание на четыре упущения организационного характера.
Среди них — поломка сетевого электрооборудования в здании ДАФ (мастерская у башни „1П“ и в связи с этим — отсутствие света, а также необеспеченность работавших в этом здании питьевой водой и питанием в течение 19 ч. Данный факт в какой-то мере характеризует условия, в которых нередко приходилось работать испытателям первой ядерной бомбы.
После проведения генерального тренировочного опыта (22 августа 1949 г.) система управления подрывом изделия и приборами опытного поля по указанию председателя Правительственной комиссии М.Г. Первухина была опечатана и передана под контроль К.И. Щёлкина, в ведении которого она находилась до момента подрыва боевого изделия.
23 августа на полигоне было проведено совещание. Ещё раз рассматривался порядок работ по подготовке и проведению испытания зарядаРДС–1. Совещание проводили И.В. Курчатов, А.П. Завенягин, П.М. Зернов, Ю.Б. Харитон и К.И. Щёлкин. С информацией о контрольных измерениях выступил Г.Н. Флёров. В заключении своего сообщения он сказал, что для окончательного выхода на испытания необходимы три дня и линия связи с башней. В.И. Алфёров доложил регламент проведения полигонного опыта и результаты подготовки системы инициирования к испытанию. В итоге всестороннего обсуждения всех аспектов и деталей предстоящего эксперимента с первым ядерным зарядом на совещании было решено утвердить окончательный порядок работ, назначить К.И. Щёлкина ответственным за работу системы инициирвания, закончить нейтронные измерения 26 августа. Особое внимание было уделено обсуждению правил поведения участников испытания, которым предстояло впервые наблюдать ядерный взрыв. Научный руководитель полигона М.А. Садовский изложил содержание специальных инструкций по данному вопросу. Всем, кто готовился наблюдать взрыв, выдали защитные очки, значительно ослаблявшие силу света. А.И. Бурназян и Я.Б. Зельдович проверили стёкла и подтвердили, что очки обеспечивают уменьшение силы света, достаточное для безопасного наблюдения за световым излучением взрыва.
26 августа 1949 г. на полигон прибыл Л.П. Берия. К этому дню были собраны два (боевой и резервный) заряда из взрывчатых веществ. Все этапы этой работы завершались принятием актов соответствующих комиссий. Так, комиссия в составе Ю.Б. Харитона (председатель), П.М. Зернова, К.И. Щёлкина, Н.Л. Духова, А.С. Александрова, А.Я. Мальского приняла предназначенный для сборки заряд, изготовленный опытнымизаводами № 1 и 2 КБ–11. Затем комиссия, куда входили Ю.Б. Харитон, П.М. Зернов, К.И. Щёлкин, В.И. Алфёров, В.С. Комельков и А.С. Александров, признала годными к монтажу на заряде РДС–1 источники высоковольтного питания, высоковольтное реле и блок синхронного зажигания, а также приняла для снаряжения заряда партию капсюлей-детонаторов. Ю.Б. Харитон, Н.Л. Духов, В.А. Давиденко и А.С. Александров сделали заключение по четырём нейтронным инициаторам, расположив их по очерёдности применения. Отбор был проведён на основании документации и проверки их на полигоне, осуществлённой В.А. Давиденко, Ю.К. Пужляковым и А.Г. Михайленко.
Поздним вечером 26 августа руководство КБ–11 (Ю.Б. Харитон, П.М. Зернов, Н.Л. Духов) представило И.В. Курчатову и А.П. Завенягину акты о готовности всех узлов изделия к опыту. Рассмотрев акты, И.В. Курчатов в соответствии с личным распоряжением Л.П. Берии установил время проведения испытания — 29 августа 1949 г., 8 ч 00 мин местного времени.
Началась 48-часовая готовность к первому ядерному взрыву, в ходе которой, согласно принятому регламенту, начались работы по окончательному монтажу боевого изделия в сборочной мастерской вблизи центральной башни. Отсчёт времени начался ровно за двое суток до назначенного времени испытания — в 8 ч утра 27 августа.
Заряд из взрывчатых веществ был доставлен из сборочного здания площадки „Н“ накануне. 27 августа было произведено снаряжение боекомплекта пробок взрывателей капсюлями-детонаторами. Снаряжение производил В.С. Комельков, а акт о проведении этой операции подписали К.И. Щёлкин, В.И. Алфёров, В.С. Комельков и С.Н. Матвеев. К концу этого же дня В.И. Алфёров и В.С. Комельков с группой инженеров и техников закончили монтаж и проверку системы подрыва электродетонаторов. Им оставалось подключить последнюю розетку под ЭД на съёмном элементе заряда после установки плутониевого заряда и окончательной сборки изделия.
28 августа подрывники провели последний осмотр башни, подготовили к подрыву автоматику и проверили в последний раз кабельную линию. Г.Н. Флёров и Д.П. Ширшов с двумя помощниками смонтировали на башне аппаратуру для дистанционного контроля нейтронного фона изделия.
В 16 ч 28 августа к сборочной мастерской были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных инициатора. В мастерской был проведён выбор одного из них по паспортным данным, была собрана измерительная схема, позволявшая определить активность нейтронного инициатора, приготовленного для опыта. По результатам работ был составлен протокол, который подписали Ю.Б. Харитон, Н.Л. Духов, В.А. Давиденко, Ю.К. Пужляков и А.Г. Михайленко. После этого детали плутониевого заряда были извлечены из контейнеров, тщательно осмотрены и проверены. По всем проверявшимся параметрам детали заряда соответствовали требованиям чертежей. Отобранный нейтронный инициатор был установлен в „шар Духова“, который в свою очередь был смонтирован в сборку, входящую в центральную часть изделия. После измерения нейтронного потока собранный поршень был подготовлен к установке в центральную часть. Эти операции проводились Н.А. Терлецким и Д.А. Фишманом. Протокол по результатам работ был написан от руки Ю.Б. Харитоном и подписан им, а также Н.Л. Духовым, Г.Н. Флёровым и В.А. Давиденко.
В ночь на 29 августа Ю.Б. Харитон и Н.Л. Духов с помощниками в присутствии И.В. Курчатова, А.П. Завенягина, А.С. Александрова и П.М. Зернова установили поршень в центральную часть. Окончательный монтаж ядерного заряда был закончен при непосредственном участии А.Я. Мальского и В.И. Алфёрова к 3 ч ночи 29 августа.
К 4 часа утра после опечатывания системы автоматики и разъёмов на линии подрыва к башне прибыли К.И. Щёлкин и С.Н. Матвеев с боекомплектом электродетонаторов. После разрешения находившихся поблизости у башни Л.П. Берии и И.В. Курчатова на подъём изделия на башню К.И. Щёлкин отдал распоряжение на вывоз РДС–1 из мастерской. Старший инженер Д.А. Фишман, ставший впоследствии первым заместителем главного конструктора ВНИИЭФа, с четырьмя сотрудниками КБ–11 выкатили изделие по рельсовому пути и установили его в клети грузового подъёмника. Начальник полигонов КБ–11 Г.П. Ломинский, которому было поручено управление подъёмником, тщательно проверил крепление изделия. К.И. Щёлкин и С.Н. Матвеев с боекомплектом электродетонаторов поднялись на башню на пассажирском лифте. Вслед за ними туда же поднялись А.П. Завенягин и А.С. Александров. Получив разрешение, Г.П. Ломинский и техник А.А. Измайлов подняли грузовую кабину с изделием в сопровождении П.М. Зернова на отметку 30 м, где она и была закреплена. Сразу же была подключена аппаратура контроля нейтронного фона. Все эти операции заняли 1 час. В 5 час. 5 мин. утра все, за исключением К.И. Щёлкина, С.Н. Матвеева, Г.П. Ломинского, А.П. Завенягина, А.С. Александрова и П.М. Зернова, покинули башню. С опытного поля был эвакуирован весь личный состав, кроме офицерской охраны Министерства государственной безопасности. Осмотр изделия на башне, снаряжение его электродетонаторами, подключение к схеме подрыва и повторный после этого осмотр заняли ещё около часа. Все работы были завершены к 6 ч утра… О ходе всех проводившихся на башне операций П.М. Зернов докладывал по телефону И.В. Курчатову, который находился на командном пункте в 10 км от центра опытного поля.
К моменту завершения заключительных операций резко ухудшилась погода. Низко над полем проносились рваные облака, затянувшие всё небо. Начал накрапывать дождь. В связи с сильными порывами ветра и во избежание неприятностей при спуске на пассажирском лифте, надёжно работавшем при скорости ветра до 6 м/с, все находившиеся на башне спустились вниз по лестнице. Замыкающими были А.П. Завенягин и К.И. Щёлкин, опломбировавший вход на башню. После этого была снята охрана и проведена эвакуация людей с центра опытного поля. С последней машиной отсюда выехали А.П. Завенягин, К.И. Щёлкин и С.Н. Матвеев. На промежуточном пункте С.Н. Матвеев в присутствии А.П. Завенягина и К.И. Щёлкина включил разъём, соединив тем самым аппаратуру на башне с системой контроля и управления, установленной на командном пункте.
Все работы на опытном поле, таким образом, были полностью завершены.
В 6 час. 18 мин. подрывники прибыли на командный пункт и доложили Л.П. Берии и И.В. Курчатову о полной готовности изделия к подрыву, а начальник полигона генерал С.Г. Колесников — о готовности полигона.
Продолжавшееся резкое ухудшение погодных условий серьёзно обеспокоило руководителей испытания. В отчёте о результатах испытания К.И. Щёлкин позже напишет, что после принятия докладов о полной готовности к опыту Л.П. Берия, М.Г. Первухин и И.В. Курчатов вышли из командного пункта на открытое место в надежде увидеть прояснение. Однако погода не предвещала ничего хорошего. Видимость упала, дождь стал более частым, ветер усилился до 12–15 м/с, не исключалась возможность грозовых явлений. Во избежание неожиданностей, связанных с непогодой, И.В. Курчатов с согласия Л.П. Берии принял решение о переносе времени взрыва с 8 ч. на 7 ч. утра 29 августа.
Коррективы, которые внесла природа в ход испытания, в целом никак не отразились на всей процедуре дальнейших работ. События разворачивались чётко по регламенту. За 25 мин. до подрыва были сняты пломбы с операторской командного пункта и проведено подключение питания системы автоматики. За 12 мин. до опыта был включён автомат опытного поля, за 20 сек. — рубильник, соединявший цепь изделия с системой автоматики управления. С этого момента все операции по подрыву осуществлялись автоматически. По своей конструкции система подрыва предусматривала автоматическую подачу в нужный момент (ровно в 7 час. утра) импульса для подрыва ядерного заряда, за 6 сек. до этого — импульса для включения блока синхронного зажигания, за 1 сек. — импульса для открывания затворов оптической аппаратуры, предназначенной для фотографирования явлений взрыва. Приостановить начавшийся процесс можно было только с помощью рубильника. Причин для этого не было…
С включением автомата подрыва начался отсчёт времени. Считал А. Я. Мальский. Ровно в 7 час. 00 мин. утра 29 августа 1949 г. вся местность пустынной казахской степи озарилась ослепительным светом… Примерно через 30 сек. к командному пункту подошла ударная волна (напомним, что здание „12П“ находилось на возвышенности в 10 км. от центра опытного поля). Она сопровождалась мощным грохотом, выбила стёкла на командном пункте и оглушила некоторых из присутствовавших там. После прохождения ударной волны двери командного пункта были открыты, все находившиеся там вышли из помещения и стали наблюдать за явлениями, сопутствовавшими взрыву.
Громадный чёрный столб дыма и пыли поднялся из центральной части поля и вскоре ушёл за облака. По земле протянулась огромная туча пыли. Сильный ветер гнал дымный и пыльный столб в северо-восточном направлении. В момент взрыва на месте башни появилось светящееся полушарие, размеры которого в 4–5 раз превышали размеры солнечного диска. Его яркость была в несколько раз больше солнечной. После первой вспышки наблюдатели сняли очки и увидели большую огненную полусферу золотистого цвета, которая превратилась в огромное бушующее пламя, а затем сменилась быстро поднимавшимся столбом дыма и пыли. Зарево и гул после взрыва РДС–1 отмечались не только в различных пунктах полигона, отстоявших от центра опытного поля на 30–70 км., но и по дороге в Семипалатинск на расстоянии 80 км. от эпицентра взрыва. Через 20 мин. после взрыва к центру опытного поля были направлены два танка, оборудованные свинцовой защитой, для проведения радиационной разведки и осмотра местности.
На месте центральной башни зияла воронка диаметром 3 м. и глубиной около 1,5 м., на дне которой находились остатки железобетонного фундамента башни. Почва оплавилась и образовалась сплошная корка шлака. Мощность радиоактивного излучения превышала 50000 мкР./с. Гражданские здания и сооружения, расположенные на расстоянии 50 м. от центра поля, были полностью разрушены, железнодорожный мост сорван с опор и отброшен в сторону. Не менее серьёзные повреждения были нанесены и всем постройкам, находившимся на более дальнем расстоянии от башни. Выявление состояния радиоактивности опытного поля позволило приступить к поэтапной эвакуации животных. Из 1538 подопытных животных в результате взрыва погибло 368. Остальные были в тот же день, 29 августа, перевезены в виварий и клинику для дальнейшего наблюдения и изучения характера действия радиации на живой организм.
Подвиг разведчиков-дозиметристов, совершивших рейд в эпицентр ядерного взрыва 29 августа, был повторён 1 сентября П.М. Зерновым и К.И. Щёлкиным, которые вместе с двумя фотографами полигона Поляковым и Приваловым и дозиметристом Дороховым побывали в центре опытного поля, чтобы лично убедиться в последствиях ядерного взрыва. Длительность их пребывания была небольшой — 15 мин., но наряду с другими данными их впечатления оказались существенными для дополнения картины.
В основном картина взрыва и его последствий формировалась не столько за счёт наблюдений очевидцев, сколько фиксированием соответствующих явлений с помощью фото- и киноаппаратуры, а также различных измерительных приборов. Достаточно сказать, что на полигоне было установлено 1300 различных приборов для физических измерений и 9700 индикаторов различного типа для исследования параметров проникающих излучений. Эти индикаторы размещались на открытой поверхности, на небольшой глубине под землей, а также в фортификационных сооружениях и в образцах вооружения вместе с подопытными животными.
Мощность взрыва РДС–1, осуществлённого 29 августа 1949 г., определялась тремя независимыми методиками. Её фактическое значение хорошо согласовывалось с ожидавшимся расчётным значением.
Событие, происшедшее на Семипалатинском полигоне, известило мир о создании в СССР ядерного оружия, что положило конец американскому монополизму на владение новым для человечества оружием.
Первые серийные образцы ядерного оружия — изделия РДС–1 — были изготовлены на опытных заводах КБ–11 в 1950 г. На вооружение армии они не поступали, хранились в разобранном виде в спецхранилищах КБ–11.
По представлению Совета Министров СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 г. за создание ядерной бомбы большая группа работников науки и промышленности была отмечена правительственными наградами. Ведущим специалистам КБ–11Ю.Б. Харитону, К.И. Щёлкину, Н.Л. Духову, В.И. Алфёрову, Я.Б. Зельдовичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 29 сотрудников первого ядерного центра были награждены высшей в то время государственной наградой — орденом Ленина, 15 — орденом Трудового Красного Знамени, 28 участникам работы над РДС–1 была присуждена Государственная премия СССР.
Статья опубликована в Бюллетене Центра общественной информации по атомной энергии, № 7-8 1999 г.