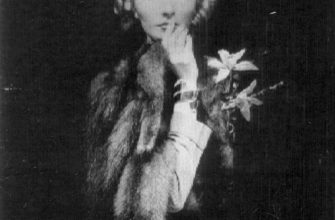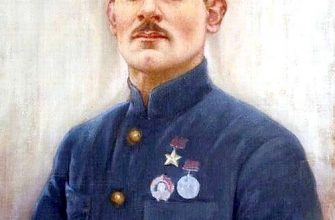Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» в неравном бою с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» в Карском море» повторил подвиг крейсера «Варяг»
Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» в неравном бою с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» в Карском море» повторил подвиг крейсера «Варяг»
Сегодня в календаре памятных событий значится: «1942 год. Героически погиб ледокольный пароход «Александр Сибиряков» в неравном бою с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» в Карском море».
Подвигу исполняет 70 лет. О нем рассказывает один из авторов второй книги «О чем молчат арктические льды» (она повествует о войне с фашистами на Севере) капитан 1 ранга Александр Жбанов – в советские годы начальник Аварийно-спасательной службы Черноморского флота, а затем начальник Океанариума ВМФ в Казачьей бухте, научный руководитель «ЭПРОН-клуба», ныне научный руководитель дельфинария в Артбухте. Он любезно предоставил главу из книги, которая рассказывает об этом подвиге. Кстати сказать, второй автор этой книги известный ученый Анатолий Федоров был в Севастополе, о чем в свое время рассказывал «Форпост».
Итак, вот что повествует в книге контр-адмирал К.И.Степин – бывший командир БЧ-2 СКР-19 «Дежнев»:
“13 августа 2010 года морская общественность России отмечала 100-летие со дня рождения прославленного капитана Анатолия Алексеевича Качаравы, который плавал на «А.Сибирякове» старшим помощником капитана, а осенью 1941 года был назначен капитаном. Этот эпизод в своей автобиографии А.Качарава описал следующим образом: «В 1941 году, будучи капитаном л/п «А.Сибиряков», в ноябре месяце вместе с кораблем был зачислен в особый ледокольный отряд Северного флота и мне было присвоено воинское звание «лейтенант», а потом и «старший лейтенант». Вместе с экипажем и пассажирами пароход в августе 1942 года повторил подвиг крейсера «Варяг».
Эта трагедия в Карском море была подробно описана в повести Л.А.Новикова и А.К.Тараданина «Сказание о «Сибирякове», которая вышла в издательстве «Молодая гвар¬дия» в 1961 году тиражем 115 тысяч экземпляров. Вполне естественно, что сейчас эта книга стала библиографической редкостью, поэтому мы подробно расскажем современному читателю о той героической битве. Но обо всем по порядку.
На Диксон «А.Сибиряков» пришел 18 августа 1942 года после длительного и тяжелого плавания из Архангельска по отдаленным полярным станциям. Это был трудный рейс, так как более 8 суток ледовому пароходу пришлось пробиваться через тяжелые льды с помощью взрывов аммонала.
Но вместо заслуженного отдыха пришлись срочно уходить в очередной рейс. Поэтому уже 24 августа, приняв на борт более 300 тонн различных грузов для полярных станций и смену зимовщиков, среди которых было 7 женщин, пароход ушел в новый рейс.
Рейсовым заданием предусматривался заход судна на мыс Оловянный, далее на остров Домашний, затем на мыс Арктический (самая отдаленная оконечность Северной Земли), где планировалось высадить группу полярников с имуществом. Но эта часть задания была практически невыполнима, так как за последние 9 арктических навигаций пробиться через ледовые заторы к мысу Арктический удалось только однажды. Кстати, это сделал «А.Дежнев». Поэтому, согласно плану, если ледовая обстановка не позволит организовать такую высадку, то смену зимовщиков и имущество этой станции сибиряковцы должны были доставить на остров Визе.
Из порта Диксон до Скуратовского створа «А.Сибиряков» традиционно провожал портовый буксир «Молотов», на бор¬ту которого находился начальник западного сектора Арктики Н.А.Еремеев.
На следующий день, 25 августа, при обмене штатными радио сообщениями с Диксона была получена информация о том, что ночью нацистская субмарина обстреляла полярную станцию на мысе Желания и предупреждение о возможном появлении в Карском море фашистского рейдера.
Это предупреждение Карачава посчитал обычным для всех судов и полярных станций западного сектора Арктики, так как в том районе, где находился пароход, вражеские ко¬рабли еще ни разу не появлялись. Тем более что это была зона дрейфующих льдов.
Рейс проходил в плановом режиме до того момента, как сигнальщики не увидели на горизонте дым. Радист на условной для этого района волне трижды запросил чье это судно, но ответа не получил. Это было ошибкой, так как, имея вышеуказанную информацию надо было не посылать радиозапрос, а уклониться от возможной встречи и доложить на Диксон о появлении в этом районе неизвестного. Посланным радиозапросом «А.Сибиряков» раскрыл свое местонахожде¬ние, и при скорости хода в 8-10 узлов невозможно было избежать встречи с рейдером, идущим со скоростью в 28 узлов!
Вскоре сигнальщики «А.Сибирякова» увидели, что встречным курсом идет военный крейсер. По указанию А.Качаравы, на Диксон была немедленно отправлена радиограмма следующего содержания: «Вижу крейсер неизвестной национальности, идет без флага».
Правда, на повторные запросы в зоне прямой видимости, переданные международным флажным кодом о названии судна и национальности, был получен ответ «Я – Тускалуза» и поднят американский флаг!
Во время нахождения Качаравы на Диксоне, один из капитанов, прилетевший туда из Мурманска, рассказал, что 13 августа в Мурманский порт пришел конвой из США в составе трех эскадренных миноносцев и крейсера «Тускалуза», которые доставили авиационный персонал и снаряжение для организуемой на Мурмане базы эскадрильи американских торпедоносцев «Хемпден».
Возможно, что это зародило в душе Качаравы некоторую надежду, что произошедшая встреча еще может закончиться благополучно. В то же время Качарава отлично понимал, что по внешнему виду двухбашенный с мощной высокой боевой рубкой, однотрубный броненосец мало походил на трехбашенные и двухтрубные американские тяжелые крейсера.
Поэтому на Диксон немедленно была отправлена еще одна радиограмма: «Военный корабль поднял американский флаг. Идет прямо на нас». Ответ Диксона был очевиден: «В данном районе никаких американских судов быть не может. Корабль считать противником. Действовать согласно боевой инструкции». И на ледоколе была объявлена боевая тревога, а неизвестное судно стало запрашивать у «А.Сибирякова» информацию о ледовой обстановке в проливе Вилькицкого и вести себя так, как это уже многократно делалось в подобных ситуациях, когда такие встречные по первому же требованию выдавали все необходимые сведе¬ния и, не сопротивляясь судьбе, уходили на морское дно. Так было постоянно и так, по мнению Меендсена, должно было произойти и сейчас.
Поэтому на рейдере была отдана обычная для таких случаев команда: «Боевая тревога! Главные орудия к бою! Катер подготовить к спуску на воду! Автоматчиков в катер! Будем брать в плен русских, с борта сразу снять капитана, шифровальщиков, карты района плавания и всю документацию. Подготовить торпеду к пуску!».
Но «язык», вместо того чтобы точно выполнять команды рейдера, повел себя не так, как это давно стало привычным для Меендсена. Действительно, не отвечая на этот запрос, А.Качарава резко изменил курс судна и попытался уклониться от встречи. Увидев, что ледокол меняет курс, уходит в сторону ближайшего берега (о. Белуха), с крейсера передали команду «Остановиться!». Еще через минуту раздался предупредительный выстрел, и высокий столб от разорвавшегося в море крупнокалиберного снаряда поднялся впереди по курсу советского судна, а вместо американского флага на гафель полезло развиваемое ветром бело-красное фашистское полотнище со свастикой.
В 13.40 Диксон получил радиограмму: «Принимаем бой», а через 7 минут еще одну: «Началась канонада».
Артиллеристы из военной команды «А.Сибирякова», ко¬торыми руководил младший лейтенант Никифоренко, открыли огонь из орудий, установленных на пароходе (два 75-мм и два 45-мм, размещенных на носу и корме).
Но уже с первого залпа стало ясно, что снаряды из пушек «Сибирякова» не долетают до рейдера, и Качарава принял решение идти на сближение с «Шеером».
Вероятно, этот неожиданный маневр настолько оше¬ломил фашистов, что фактически только снаряды третьего залпа «Шеера» достигли цели, когда от прямого попадания замолкли кормовые орудия судна и была выведена из строя рулевая система. От следующего залпа замолкли носовые орудия и загорелся бензин, бочками которого была плотно заставлена вся носовая часть «Сибирякова».
Когда удалось перейти на ручное управление, «Сибиряков» еще раз развернулся, и Качарава под прикрытием дымо¬вой завесы попытался увести судно к острову Белый.
Но объятый пламенем и сильно осевший на корму «Сибиряков» был отличной мишенью для артиллеристов «Шеера», которые хладнокровно стали добивать пароход.
По версии повести Э.С.Вересоцкого «100 лет капитану «Полярного Варяга» (изд. РИС «Морские вести России», 2010), на которую мы еще будем ссылаться, буквально за минуту до прямого попадания снаряда в радиорубку, радист А.Шершавин успел отправить открытым текстом радиограмму следующего содержания: «Всем! Всем! Ведем бой с фашистским крейсером «Адмирал Шеер». Враг требует данные о ледовой обстановке и местонахождении конвоя. Приказал спустить флаг и сдаться в плен. Имеем прямые попадания снарядов. Горим. Продолжаем вести огонь. Капитан тяжело ранен – он без сознания. Много убитых. Комиссар приказал покинуть судно. Прощайте. 14 час. 05 мин. Шершавин».
«Сибиряков» умирал, и когда на судне уже ничего не осталось, что можно было уничтожить снарядами, фашисты перешли на картечь, расстреливая оставшихся в живых.
В единственной, чудом уцелевшей шлюпке, которая ле¬жала на ботдеке, заваленная обломками, разместилось 26 оставшихся в живых. Туда же перенесли тяжелораненого капитана, а «Сибиряков», быстро оседая на корму и гордо задрав нос, навечно ушел в воды Карского моря.
В 14.05 связь была полностью потеряна. Но радисты Диксона уже передавали тревожную весть: «Всем, всем, всем. В Карском море появился фашистский крейсер. Ледокольный пароход «А.Сибиряков» принял бой».
Но «Сибиряков» уже молчал, так как кроме отчаянного героизма команды, что можно было противопоставить мощному крейсеру? Посланный с Диксона самолет в районе боя уже не нашел ни «Сибирякова», ни крейсера.
После войны было выяснено, как отражена расправа фашистского рейдера над советским ледоколом в вахтенном журнале: «Катер обнаружил в шлюпке 28 человек. Несколько русских отказались погрузиться и пошли ко дну».
Несколько – это 10 советских матросов из команды «А.Сибирякова», которые смерть в холодных водах Карского моря предпочли немецкому плену.
Но моряки «Сибирякова» не дали своему капитану уйти на дно, и он раненый, в бессознательном состоянии, был вместе с остальными пленными доставлен нацистами на рейдер.
На поиски «Шеера» из Амдермы было направлено несколько самолетов, а к северной оконечности Новой Земли вышла подводная лодка. Беломорская флотилия получила приказ: «В связи с резким ухудшением обстановки пушки с Диксона не снимать». Но все получилось не так. Впрочем, все по порядку.
В этой истории надо отметить, что «А.Сибиряков» стал первой жертвой фашистов на Карском море в 1942 году.
В предисловии к повести «Сказание о Сибирякове», на¬писанном адмиралом А.Г.Головко, указано: «…Может быть, некоторые картины, описанные в повести, и являются ху¬дожественным домыслом авторов, но они основаны на фактах, имевших место в жизни…
…Бывают бои, стычки, когда меньшее количество людей с плохим оружием сражается с более сильным противником и побеждает. У «Сибирякова» не было шанса. В сравнении с вооруженным до зубов фашистским линкором «Адмирал Шеер» ледокольный пароход выглядел просто жертвой. Но в Арктике находилось много советских судов, которым угрожала встреча с «Шером». Командир «Сибирякова» старший лейтенант А.А.Качарава, все члены экипажа понимали, что от них зависело задержать на какое-то время вражеский корабль и оповестить о нем всю советскую Арктику.
Сибиряковцы знали, что это они могут сделать только ценой собственных жизней.
Они без колебаний пошли на верную гибель. Преданность Отчизне, высокое чувство долга перед Родиной, любовь к ней – вот что руководило экипажем советского ледо¬кольного парохода и, в первую очередь, его командиром…».
И они действительно сделали это!
Но какой ценой – из 104 человек, ушедших с Диксона на «А. Сибирякове», в живых осталось только 18! Семнадцать попали в плен и только одному – кочегару П.И.Вавилову – удалось незаметно от фашистов на полузатонувшей шлюпке добраться до острова Белуха, где он в одиночестве и практически без продуктов прожил более месяца, пока не был снят оттуда спасателями. Но это уже совсем другая тема, имеющая отношение к операции «Страна чудес».
Позднее соратник И.Папанина Е.Сузилов написал до¬стоверную повесть «Подвиг сибиряковцев», а в 1968 году издательством ДОСААФ в дополненном варианте была переиздана повесть Л.Новикова и А.Тараданина «Сказание о «Сибирякове», которая называлась «Полярный «Варяг».
В 1982 году на Диксоне проводились торжественные мероприятия, посвященные 40-летию обороны острова. По указанию РК КПСС и поселкового Совета Диксона, на остров были приглашены бывшие члены команды СКР-19: машинист А.Полесный и рулевые И.Шнейдер и Ю.Гудин. В составе этой же делегации были корреспондент «Правды» писатель В.Рудный и ветеран Северного флота, активно ведущий поиск материалов о сибиряковцах, С.Быков.
В сборнике «В конвоях и одиночных плаваниях», который в 1985 году был издан в Архангельске Северо-Западным книжным издательством, опубликована статья И.Шнейдера «Матросские острова» о неравном бое «Сибирякова» на Диксоне с «Шеером» в ту ночь – 27 августа 1942 года (С.105-116).
Там же опубликована статья Е.Баренбойма «Погибаю, но не сдаюсь» о «Сибирякове». Вообще в этом сборнике много интересных материалов о событиях тех военных лет, кото¬рые происходили в арктических водах Советского Союза.
Также известно, что дочь второго помощника капитана «А.Сибирякова» С.Ф.Бурых, который погиб в бою с «Адмиралом Шеером», – Б.Куневич – организовала в Архангельске «Клуб Сибиряковцев».
Тщательным исследованием подвига экипажа легендарного парохода основательно занимался капитан нового «Сибирякова» – Сергей Михайлович Быков, который на борту судна организовал музей.
Однофамилец капитана Степан Васильевич Быков, кото¬рый в 1982 году был на Диксоне по случаю 40-летия обороны острова, провел большую исследовательскую работу, в результате которой была полностью восстановлена судовая роль «Сибирякова» и прослежены послевоенные судьбы оставшихся в живых и многих членов семей погибших участников легендарного рейса.
Музей северного мореплавания в Архангельске на Красной пристани и Мурманский областной краеведческий музей хранят память о героическом краснознаменном «Сибирякове». В уникальном музее Мурманского морского пароходства неутомимая и влюбленная в свое дело Валентина Ивановна Корепова с особой заботой оберегает экспонаты и фотографии, посвященные подвигу «Сибирякова» и особенно его капитану – А.А.Качараве.
Кстати, как бы чувствуя свою вину за то, что в 1945 году он не рискнул идти «до конца», чтобы доказать геройство Качаравы, И.Папанин активно поддерживал трудовую деятельность Анатолия Алексеевича. Еще 20 августа 1945 года он подписал приказ № К-453 о назначении Качаравы дублером капитана ледокола «Ленин» и предоставлении ему продолжительного отпуска за время работы в Арктике и нахождение в плену.
Подписывая такой приказ, И.Папанин, безусловно, рисковал не только своим контр-адмиральским званием, но и должностью начальника Главсевморпути при СНК СССР. Но он это сделал!
Послевоенная жизнь Качаравы сложилась удачно. Он много плавал, полностью отдавая себя любимой работе, был делегатом нескольких съездов КПСС, депутатом Верховных Советов Грузии и Аджарии, а с 1970 года возглавил Грузинское морское пароходство, которое успешно работало в годы Советской власти.
Однако Э.С.Вересоцкий, много лет проработавший с Качаравой, совершенно справедливо написал в своей повести «100 лет капитану Полярного «Варяга»: «Если бы не помощь командующего СФ вице-адмирала А.Г.Головко и начальника Главсевморпути контр-адмирала И.Д.Папанина, а так же многих друзей, которые верили в него, то неизвестно, чем закончилась бы борьба героя отечественной войны и одного из лучших капитанов с постоянно подозревающей системой».
Возможно, именно благодаря четкой работе этой системы и «помощи» лже-доброжелателей на неоднократные ходатайства Министерства морского флота, командования ВМФ СССР и даже ЦК КПСС Грузии о присвоении Качараве звания Героя Советского Союза всегда приходили стан¬дартно-стереотипные ответы: «А.А.Качарава уже награжден за указанный подвиг в 1945 году».
Кроме того, в жизни Качаравы стали появлятся бдительные самоучки-дознаватели, разоблачители, чиновники и даже писатели, которые продолжали искать элементы предательства в поведении капитана «Сибирякова» в период его нахождения в застенках гестапо и фашистских лагерях смерти.
Поэтому даже в период своей кажущейся вполне благополучной жизни Анатолий Алексеевич был вынужден писать многочисленные объяснения и отвечать на сотни глупейших вопросов.
Сердце знаменитого капитана остановилось 9 мая 1982 года. Было принято решение похоронить А.А.Качараву не в пантеоне знаменитых людей Грузии, а на территории Батумского мореходного училища. Эта могила героя много лет напоминает новым поколениям молодых моряков о человеке, который беззаветно служил Родине и Флоту.
А вот защитникам Диксона с наградами Родины вообще не повезло, их подвига не то что не заметили, а даже не рассказали об этом событии. Наверное, по правилам тех лет это даже было правильным, ибо если награждать тех, кто в глубочайшем тылу Советского Союза вел отчаянный бой с немцами, то надо было найти и наказать тех, кто допустил возможность проникновения фашистов в такой далекий и стратегически важный тыл.
Но бой все-таки состоялся, и вооруженного до зубов монстра победили советские люди, имеющие в своем распоряжении не ахти какое вооружение, но зато обладавшие непоколебимой волей настоящих патриотов своей Родины. И этого достаточно для того, чтобы навечно остаться в памяти россиян.