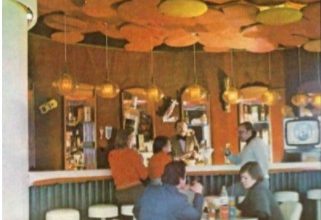Короткий период между всплеском государственного террора в 1932-1933 гг. и новым ужесточением “генеральной линии”, последовавшим за убийством С.М.Кирова 1 декабря 1934 г., по многим признакам может рассматриваться как своеобразная “оттепель”, разумеется, в рамках системы, сложившейся в 30-е годы. По мнению М.Я.Гефтера, это было время упущенного выбора, выбора между новым кровопролитием, продолжением прежнего курса и нормализацией, “антифашистской демократизацией сталинского результата”1. Рад факторов (внутри- и внешнеполитических) определяли возможность такого выбора, направление и пределы “демократизации”. Многое, несомненно, зависело и от того, какой была позиция руководства партии, существовали ли в Политбюро силы, способные возглавить и осуществить новый поворот.
Короткий период между всплеском государственного террора в 1932-1933 гг. и новым ужесточением “генеральной линии”, последовавшим за убийством С.М.Кирова 1 декабря 1934 г., по многим признакам может рассматриваться как своеобразная “оттепель”, разумеется, в рамках системы, сложившейся в 30-е годы. По мнению М.Я.Гефтера, это было время упущенного выбора, выбора между новым кровопролитием, продолжением прежнего курса и нормализацией, “антифашистской демократизацией сталинского результата”1. Рад факторов (внутри- и внешнеполитических) определяли возможность такого выбора, направление и пределы “демократизации”. Многое, несомненно, зависело и от того, какой была позиция руководства партии, существовали ли в Политбюро силы, способные возглавить и осуществить новый поворот.
1. Упрочение “умеренного” курса
Проводившаяся, невзирая на жертвы, политика усмирения стабилизировала ситуацию в стране. И когда осенью 1933 г. был собран сравнительно неплохой урожай, сторонники Сталина вздохнули с облегчением: победа! Именно поэтому XVII съезд партии, в начале 1934 г. политически закрепивший выход из “большого кризиса”, поспешили назвать “съездом победителей”.
Многие верили тогда, что самое страшное позади. Выстояв в пятилетнем противоборстве с обществом, закрепив бесповоротность коллективизации и индустриального скачка, разгромив все сколько-нибудь организованные оппозиционные группировки в партии, сталинская команда, казалось, и сама пойдет на некоторые уступки во имя умиротворения страны. Расчеты эти не были безосновательными. Ведь относительная стабилизация, достигнутая к концу 1933 г., покоилась не только на насилии. В определенной степени она была также результатом проведения сравнительно умеренной политики.
Уже на январском 1933 г. пленуме ЦК ВКП(б), провозглашая развертывание новых классовых битв, Сталин тем не менее пообещал, что во второй пятилетке прекратится “подхлестывание страны” и будут значительно снижены темпы промышленного строительства. В отличие от многих других этот лозунг вскоре действительно начал воплощаться в жизнь. Когда в начале 1933 г. хозяйственные ведомства начали по обыкновению выбивать дополнительные капиталовложения, изменяя принятые планы явочным путем, руководство страны проявило твердость. После жалобы Госплана Политбюро 2 марта 1933 г. вынесло строгое решение: “Ввиду попыток отдельных наркоматов установить объем капитальных работ на 1933 год в большем размере, чем это соответствует общей сумме финансирования капитальных работ в 18 миллиардов рублей, как это установлено январским Пленумом ЦК и ЦКК, Политбюро указывает на безусловную недопустимость таких попыток”2. Сокращение до более разумных пределов финансирования капитального строительства было важнейшей предпосылкой относительного экономического оздоровления и создавало условия для более эффективной работы промышленности.
Не столь широко и очевидно, как в индустриальных отраслях, тенденции “умеренности” проявлялись в деревне. Однако и здесь к 1934 г. наметились слабые признаки смягчения прежней политики коллективизации и борьбы с “кулачеством”. Административно-карательная деятельность политотделов МТС, многочисленные кадровые чистки и репрессивные кампании по “укреплению колхозов” сосуществовали с тенденцией ограничения продразверстки. Крестьян пытались заинтересовать в более производительном труде обещаниями придерживаться принципов продналога.
Некоторому ослаблению репрессивного нажима на деревню способствовала реализация инструкции ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным, советским работникам, органам ОГПУ, судам и прокуратуре от 8 мая 1933 г. Инструкция запрещала массовые выселения крестьян (устанавливала только индивидуальные выселения активных “контрреволюционеров”, причем в рамках установленных лимитов — 12 тыс. хозяйств по всей стране), запрещала производить аресты должностным лицам, не уполномоченным на то по закону, а также применять в качестве меры пресечения заключение под стражу до суда “за маловажные преступления”. Был установлен предельный лимит заключенных в местах заключения Наркомата юстиции, ОГПУ и Главного управления милиции (кроме лагерей и колоний) — 400 тыс. человек вместо 800 тыс., фактически находившихся там к маю 1933 г. Осужденным на срок до 3 лет инструкция предписывала заменить лишение свободы принудительными работами до одного года, а оставшийся срок считать условным3. Для осуществления этой директивы во всех республиках, краях и областях были созданы специальные разгрузочные комиссии, а общее руководство операцией осуществлял нарком юстиции РСФСР Н.В.Крыленко. Уже 19 июля 1933 г. Крыленко доложил Сталину и Молотову, что на 10 июля 1933 г. в местах лишения свободы всех систем (НКЮ, ОГПУ (кроме лагерей) и Главного управления милиции) содержалось 397284 человек, т.е. задача, поставленная директивой от 8 мая 1933 г., была решена4.
Наметившиеся в годы кризиса ростки “умеренности” уже в 1934 г. оформились в новый поворот “генеральной линии”. Его начало в определенной мере знаменовал XVII съезд ВКП(б). Во втором пятилетнем плане, утвержденном на съезде, была окончательно закреплена относительно сбалансированная экономическая политика: по сравнению с первой пятилеткой значительно снижены темпы прироста промышленной продукции, официально признана необходимость приоритетного развития отраслей группы “Б”. Одновременно на съезде проявились некоторые новые тенденции в политической сфере. Руководство партии продемонстрировало готовность примириться с бывшими оппозиционерами на условиях безусловного признания последними как их ошибок, так и права сталинской группы на монопольную власть. При этом прения на съезде позволяли надеяться, что примирение в партии будет первым шагом на пути политики умиротворения общества в целом.
При чтении стенограммы съезда невозможно не заметить, что от всякого рода собраний, проходивших на рубеже пятилеток, XVII съезд отличался прежде всего относительным миролюбием, сравнительной сдержанностью формулировок, меньшей ориентированностью на обострение классовой борьбы. Стыдливо, можно сказать, полунамеками, но все же были осуждены недавние эксцессы в деревне, приведшие к голоду во многих районах страны. “Надо прямо и совершенно определенно сказать, что репрессии были в эти прорывные годы решающим методом “руководства” многих партийных организаций Украины… — говорил, например, второй секретарь ЦК КП(б)У П.П.Постышев. — А ведь враг этим методом “руководства” пользовался, и очень широко пользовался, для того чтобы восстанавливать отдельные группы колхозников и единоличников против колхозного строительства, против партии и советской власти”5.
Накануне съезда были срочно приняты решения о восстановлении в партии некоторых лидеров бывших оппозиций. 12 декабря 1933 г. Политбюро постановило оформить прием в партию в одном из районов Москвы Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева, а 20 декабря — восстановить в ВКП(б) ведущего теоретика троцкистской оппозиции Е.А.Преображенского6. Как показали последующие события, эти восстановления были предприняты с определенной целью: группе оппозиционеров — Каменеву, Зиновьеву, Преображенскому, Ломинадзе, Томскому, Рыкову — была предоставлена возможность выступить с покаянием на съезде. Обычно, обращая внимание на этот факт, многие авторы пишут лишь о том, что выступления политических противников Сталина демонстрировали победу вождя и утверждение его единоличного лидерства в партии. В значительной степени это — правда, однако, не вся. Действительно, многие бывшие оппозиционеры на съезде в основном каялись, обильно пересыпая свои речи безвкусными здравицами в честь вождя. Но сам по себе факт их выхода на трибуну съезда демонстрировал также новую политику примирения в ВКП(б), которую Сталин назвал “необычайной идейно-политической и организационной сплоченностью рядов нашей партии”7. Реабилитация многих высокопоставленных политических противников Сталина воспринималась в партии как первый шаг на пути постепенной реабилитации рядовых оппозиционеров, прекращения репрессий и чисток.
Скорее всего, поверили в определенную прочность нового курса и сами бывшие оппозиционеры. Иначе трудно понять, почему некоторые из них позволили себе на XVII съезде некоторую строптивость и самостоятельность. Ведь вопреки распространенному мнению об общей бесцветной покорности всех кающихся оппозиционеров внимательное чтение стенограммы съезда убеждает, что фактически таковой не было. Не было ее, на что уже обращалось внимание в литературе8, в выступлении Н.И.Бухарина, которое по существу противоречило внешнеполитическому разделу отчетного доклада Сталина. Сталин вновь много говорил о предательстве социал-демократов, угрозе СССР со стороны всего капиталистического мира и относительной слабости фашизма в Германии. А Бухарин доказывал: Советскому Союзу нужно опасаться прежде всего Гитлера. Не было бездумной покорности и в выступлении Е.А.Преображенского. “Как я должен был бы поступить, если бы я вернулся в партию? — игриво, судя по стенограмме, постоянно фиксировавшей “смех” в зале, говорил он. — Я должен был бы поступить, как поступали рабочие, когда еще был жив Ленин. Не все они разбирались в сложных теоретических вопросах и в теоретических спорах, где мы, “большие умники”, выступали против Ленина. Бывало, видишь, что приятель голосует за Ленина в таком теоретическом вопросе, спрашиваешь: “Почему же ты голосуешь за Ленина?” Он отвечает: “Голосуй всегда с Ильичем, не ошибешься”. (Смех)… Я, вернувшись в партию, должен был поступить именно так, как рядовой пролетарий мне тогда советовал. Если у тебя не поворачивается язык говорить все в деталях так, как говорит партия, ты все же должен идти с партией, должен говорить, как и все, не надо умничать, должен больше верить партии, поступать так, как советовал тот рабочий. Ведь понимал же я, что партия, в основном, права”9.
Эти слова Преображенского и реакция на них в зале очень любопытны. Совершенно очевидно, что Преображенский просто высмеивал насаждаемое в партии единомыслие по принципу личной преданности вождю. И это поняли делегаты, смеявшиеся там, где, казалось бы, нужно аплодировать. Помимо прочего этот смех свидетельствовал о том, что в руководстве ВКП (б) еще оставались люди, способные понять иронию Преображенского. Думаю, что, возникни подобная ситуация на следующем, XVIII съезде в 1939 г., делегаты приняли бы тезис о слепой преданности вождю аплодисментами и здравицами в честь Сталина. А пока, на XVII съезде, Сталину пришлось даже предпринимать некоторые усилия, чтобы преодолеть неловкость, возникшую в связи с откровениями Преображенского. Выступивший вскоре после него секретарь Уральского обкома партии И.Д.Кабаков, скорее всего получив соответствующие инструкции, заявил: “…Мне кажется, здесь в корне неправильно и неуместно было заявление Преображенского, когда он говорил о том, что ему надо поступать так же, как поступил рабочий, который, будто бы, слепо голосовал за тезисы товарища Ленина. Неверно, что программа, выдвигаемая Лениным и Сталиным, когда-то принималась рабочими, голосующими за эти тезисы, слепо. Рабочие голосовали за тезисы Ленина-Сталина как раньше, так и теперь горячо и убежденно… Но когда выходит на трибуну человек, претендующий на определенный теоретический уровень, и говорит о том, что ему надо было бы тогда слепо голосовать за тезисы, то разрешите вам откровенно заявить, что здесь выражена целиком и полностью бесхребетность гнилого интеллигентика”10.
В общем, подводя итоги этим крайне беглым и отрывочным наблюдениям, можно отметить, что в работе XVII съезда партии проявились настроения в пользу “умеренности”, смены преимущественно террористической политики предшествующих годов на более сбалансированный и предсказуемый курс. “…Основные трудности уже остались позади,”11 — такими словами завершил свое выступление на съезде С.М.Киров. Под ними, несомненно, могли подписаться и многие другие делегаты. Пережив сверхнапряжение кризисов, голода, кадровых перетрясок и неуверенности в завтрашнем дне, большая часть партийных чиновников превратилась в сторонников стабильности и умиротворения. С этим должно было считаться высшее руководство партии.
Ситуация в стране в последующие месяцы свидетельствовала о том, что проявившиеся на съезде политические настроения не были простой декларацией. После XVII съезда продолжалась демонстративная реабилитация оппозиционных лидеров. 20 февраля на первом же заседании Политбюро нового созыва по инициативе Сталина ответственным редактором газеты “Известия” был назначен Бухарин12. По всем признакам это назначение могло рассматриваться как первый шаг на пути возвращения Бухарина в большую политику. 13 марта 1934 г. Политбюро утвердило решение Комиссии партийного контроля о восстановлении в партии с отменой перерыва в партстаже еще одного лидера “правого уклона”, бывшего секретаря ЦК ВКП(б) и первого секретаря Московского комитета партии, кандидата в члены Политбюро в 1926-1929 гг. Н.А.Угланова13. Примерно в это же время в Москву по прямому проводу через органы ОГПУ поступила просьба о разрешении приехать из ссылки для подачи заявления о “безоговорочном” разрыве “с контрреволюционным троцкизмом” от одного из известнейших руководителей троцкистской оппозиции Х.Г.Раковского. Это заявление поступило на рассмотрение членов Политбюро с резолюцией Сталина: “т.т. Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Серго, Кирову, Жданову. По-моему, можно разрешить Раковскому приезд в Москву”. 18 марта было оформлено соответствующее решение Политбюро о вызове Раковского14. 22 апреля, после публикации в “Правде” заявления Раковского, Политбюро постановило поставить перед Комиссией партконтроля вопрос о его восстановлении в ВКП(б)15. В конце апреля — начале мая Политбюро решило вопрос о трудоустройстве Зиновьева и Каменева. Первый стал членом редакции журнала “Большевик”, а второй — директором литературного института16. Конечно, сама процедура покаяния и “признания ошибок” для бывших оппозиционеров была до крайности унизительной. Более того, уже “прощенных”, их третировали при каждом удобном случае при явном поощрении Сталина. В 1934 г. так и не был принят в партию, оставаясь в “подвешенном” состоянии, Раковский. Зиновьев, несколько месяцев спустя после своего назначения в ж. “Большевик”, по инициативе Сталина был изгнан оттуда с громкимскандалом и т.д. Однако, несмотря на это, “прощение” лидеров бывших оппозиций, их освобождение из ссылок и тюрем и трудоустройство были демонстрацией не только окончательной победы Сталина (для этого оппозиционеров можно было, например, расстрелять, что Сталин и сделал два-три года спустя) , но и жестом “примирения”, консолидации партии вокруг единственного наследника Ленина, демонстрацией окончания внутрипартийной борьбы.
Более существенные перемены после XVII съезда произошли в экономической политике. Наряду со снижением плановых темпов прироста промышленной продукции и капиталовложений, что означало отказ от прежней стратегии “больших скачков”, период второй пятилетки в индустриальных отраслях был отмечен многочисленными экспериментами и “реформами”, направленными на расширение экономической самостоятельности предприятий, оживление материального стимулирования труда. Своеобразным символом этих “реформ” был тогда экономический эксперимент на Макеевском металлургическом заводе. Проводил его по личному поручению Г.К.Орджоникидзе руководитель этого предприятия Г.В.Гвахария. Еще в 1928 г. он был исключен из партии и выслан в Казахстан за принадлежность к троцкистской оппозиции. В 1930 г. в ВКП(б) его восстановили, а в 1933 г. назначили директором завода. Под его руководством макеевцы после долгих опытов разработали свою систему так называемого агрегатно-бригадного хозрасчета. Ее смысл заключался в улучшении материального стимулирования труда. Макеевский завод добился неплохих экономических показателей.
Окончательно, как “левацкие”, были осуждены к этому времени идеи прямого продуктообмена, зато много говорили о роли денег, хозрасчета, необходимости укрепления рубля. В ноябре 1934 г. пленум ЦК ВКП(б) принял решение принципиальной важности — отменить с 1935 г. карточки на хлеб. Такое же значение имело и другое постановление ноябрьского пленума — о ликвидации политотделов МТС в сельском хозяйстве. Эти чрезвычайные органы управления, созданные в 1933 г., когда колхозы буквально разваливались под гнетом голода и тотальной продразверстки, были символом административно-репрессивной системы руководства. Железной рукой работники политотделов почти два года “наводили порядок” в деревне. Ликвидация политотделов была одним из проявлений новой политики в деревне — прекращения откровенной конфронтации с крестьянством, массовых депортаций; уступки в таком важнейшем вопросе, как некоторое расширение личных крестьянских приусадебных хозяйств.
В конечном счете в основе относительно “умеренного” курса лежало признание значимости личного интереса, важности материальных стимулов к труду. Процветавшие в годы первой пятилетки проповедь аскетизма, призывы к жертвенности и подозрительное отношение к высоким заработкам явно сменились идеологией “культурной и зажиточной жизни”. Вместо мифических городов-садов и изобильного социализма, обещанных в начале первой пятилетки, советским людям в качестве перспективы предлагали теперь вполне осязаемый набор потребительских благ: комнату, мебель, одежду, сносное питание, возможности более разнообразного досуга. Стремление к достижению этого потребительского стандарта активно использовалось как способ мотивации труда.
“Красная Россия становится розовой” — под таким заголовком 18 ноября 1934 года американская газета “Балтимор сан” поместила сообщение своего московского корреспондента (в Советском Союзе эта статья была замечена и включена в секретный бюллетень переводов из иностранной печати для высшего руководства страны). Среди фактов, подтверждавших это “порозовение”, автор называл не только перемены в управлении колхозами и промышленными предприятиями, но и распространение сдельной оплаты труда, отмену партмаксимума, увеличение ассортимента потребительских товаров, в том числе чулок из искусственного шелка, до недавних пор числившихся в “идеологически невыдержанных”, распространение тенниса, джаза и фокстрота, ранее порицавшихся за “буржуазность”.
Действительно, с началом политики “великого перелома” досуговая культура находилась под особо жестким идеологическим контролем и была, как и все другие социально-экономические сферы, подчинена единой цели — строительству политически монолитной индустриальной державы. Культура и досуг в идеале подлежали такому же огосударствлению, как экономика. Всякие попытки сохранить “хутора” личных неидеологизированных культурных запросов воспринимались как вражеское воздействие. Это касалось всего. Даже танцев.
Идеологи новой культуры призывали, например, создать свой, советский танец, “в котором ощущалась бы могучая индустрия, темпы наших дней, лозунги, мысли, чувства наших дней”. Зарубежные заимствования, например, фокстрот, клеймились как “танцы деградирующей буржуазии”, “кровные братья кокаина и рулетки”17.
Ничего хорошего из этих проектов, конечно, не получилось. А советские люди, и особенно молодежь, устав от мелочной регламентации и заорганизованности, все настойчивее тянулись к “запретному плоду”. Власти пошли на уступки. Выдвижение в качестве перспективы социалистического строительства достижения “культурной и зажиточной жизни” сопровождалось некоторыми послаблениями в одной из самых ортодоксально-неприступных крепостей — культурно-идеологической. “Еще недавно музыкальный критик, увидев во сне саксофон или Утесова, просыпался в холодном поту и бежал в “Советское искусство” признавать свои ошибки… А сейчас? Сейчас от “моей Маши” нет житья. Куда ни пойдешь, она всюду сидит у самовара… Джаз Утесова, джаз Ренского, джаз Скоморовского, джаз Березовского, английский джаз, чехословацкий джаз, женский джаз, джаз лилипутов” — этот пассаж из “Комсомольской правды” от 27 октября 1934 г. дает некоторое представление о завоеваниях “чуждой культуры” в период “потепления” 1934 г.
Как обычно после долгого подавления “запретный плод” “поедали” судорожно-торопливо, без приборов и причавкивая. Под танцы стали занимать читальные и лекционные залы, конкурсами исполнителей румбы, фокстрота и чарльстона были переполнены программы клубов, парков и профсоюзных садов. Многих здравомыслящих людей эти “суррогаты культуры” пугали не меньше, чем бездумно идеологизированные образцы официально предписанного досуга. Однако немало было и тех, кто критиковал новые формы времяпрепровождения, так сказать, с левых позиций. “Это не просто случайное явление, — писал один из них в “Комсомольскую правду”, — а плановый очередной трюк классового врага в нашей стране, это тормоз ликвидации пережитков капитализма в сознании людей… Джаз кинотеатра “Центральный” 75 процентов номеров исполняет фокстроты”1“. Но времена несколько изменились, и корреспондент газеты авторитетно разъяснил поборнику идеологической чистоты, что пора отбросить “пошлость нарочитого аскетизма, еще так недавно считавшуюся хорошим советским тоном”.
Постепенное улучшение условий жизни, попытки скорректировать экономический курс, тверже опереться на материальные стимулы, разбудить инициативу не могли не сопровождаться некоторым смягчением репрессивной политики. “…Должен отметить еще одну черту, которая бросается в глаза: исчезновение страха, — рассказывал тогда, после пятинедельного пребывания в СССР, сотрудник нью-йоркской газеты “Форвертс” М.Хиной. — Прежнего кошмарного страха нет ни перед ГПУ, ни тем меньше перед милицией. Это исчезновение страха наблюдается прежде всего среди интеллигенции и прежних нэпманов и кустарей. Не видно его и среди широкой массы обывателей. Исключение в этом отношении составляют коммунисты, еще не прошедшие чистки. Но после чистки и коммунисты становятся откровеннее. Бросается в глаза изменение отношения к интеллигенции как к социальному слою. За ней ухаживают, ее обхаживают, ее подкупают. Она нужна”19. Конечно, говорить о расцвете демократии и законности в 1934 г. не приходится. Однако по сравнению с предыдущим периодом уровень репрессий действительно несколько снизился. По официальным данным, в РСФСР в 1934 г. было осуждено около 1,2 млн. человек, примерно на 200 тыс. меньше, чем в 1933 г. Причем применение некоторых наиболее жестоких законов (например, закона от 7 августа 1932 г., уменьшилось в несколько раз)20. Особо заметным в 1934 г. было снижение активности ОГПУ. Количество осужденных по делам, расследуемым ОГПУ (со второй половины 1934 г. НКВД), составило около 79 тыс. по сравнению с 240 тыс. в 1933 г. Впервые за долгое время общество не лихорадили широковещательные политические суды над “вредителями” и “шпионами”, слабели репрессии в оправлявшейся от голода деревне, власти в ряде случаев пресекали гонения на интеллигенцию, брали под защиту хозяйственных руководителей.
27 мая 1934 г. по инициативе ОГПУ было принято постановление ЦИК СССР, которое упрощало процедуру восстановления в гражданских правах крестьян-спецпереселенцев. Фактически восстановление в правах, вопреки ожиданиям крестьян, не избавляло их от проживания в ссылке, а лишь ослабляло комендантский надзор за ними. Но и эта возможность получить хотя бы формальное полноправие, по замечанию В.П.Данилова и С.А.Красильникова, отчасти была для спецпереселенцев “заманчивой перспективой”22.
Относительное затишье на фронте “классовой борьбы” в определенной степени было связано с продолжением действия инструкции ЦК и СНК от 8 мая 1933 г. (ссылками на нее и в 1934 г. была переполнена официальная печать). Некоторое значение для стабилизации политического положения имела также реорганизация карательных органов.
В 20-е годы в СССР наряду с Объединенным государственным политическим управлением (ОГПУ), занимавшимся преимущественно политическими делами, существовали республиканские наркоматы внутренних дел. В 1930 г., как уже говорилось, по требованию Сталина НКВД были упразднены. Часть их функций передали советским органам, а ОГПУ осталось безраздельным хозяином на поприще карательной политики. В течение нескольких лет активной “борьбы с врагами” Государственное политическое управление превратилось в глазах народа в одиозный символ насилия и произвола. Этот факт, видимо, учитывался авторами очередной реорганизации. В соответствии с постановлением Политбюро от 10 июля 1934 г. (оформленным затем как постановление ЦИК СССР), ОГПУ вошло как одно из подразделений во вновь созданный Наркомат внутренних дел СССР, чисто внешне как бы растворилось среди других многочисленных и менее одиозных управлений: рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, отделов актов гражданского состояния и административно-хозяйственного. Одновременно вновь созданный НКВД лишался значительной части судебных функций. Дела по расследуемым наркоматом и его местными органами преступлениям по окончании следствия было предписано “направлять в судебные органы по подсудности в установленном законном порядке”. Упразднялась судебная коллегия ОГПУ, а полномочия созданного при Наркомате внутренних дел аналогичного органа — Особого совещания — были несколько сокращены.
В этот же день, 10 июля 1934 г., Политбюро приняло постановление “О работе судов и прокуратуры”, в котором определялся новый порядок судопроизводства “в связи с организацией Наркомвнудела Союза ССР и предстоящей передачей на рассмотрение судебных органов дел, проходивших ранее во внесудебном порядке”. Постановление предписывало создать специальные коллегии при верховных республиканских, краевых и областных судах и главных судах автономных республик для рассмотрения дел о государственных преступлениях и преступлениях против порядка управления. Определяло судебное рассмотрение дел “об измене родине, о шпионаже, о терроре, взрывах, поджогах, диверсиях” в военных трибуналах и военной коллегии Верховного суда СССР, а дел о преступлениях на железнодорожном и водном транспорте — в линейных и водных судах и транспортной коллегии Верховного суда СССР. Все остальные дела, по постановлению Политбюро, подлежали “рассмотрению в народных судах в общем порядке”. Для рассмотрения протестов на решения верховных судов союзных республик и коллегий Верховного суда СССР при Верховном суде СССР учреждалась судебно-надзорная коллегия. Причем все решения судебно-надзорной коллегии по приговорам с расстрелом вносились на утверждение Политкомиссии Политбюро. Приговоры к высшей мере наказания, выносимые верховными судами союзных республик и не проходящие через судебно-надзорную коллегию Верховного суда, также вносились на утверждение в Политкомиссию, но Верховным судом СССР непосредственно, кроме приговоров Верховного суда РСФСР, вносимых Наркоматом юстиции РСФСР. Политбюро поручило также специальной комиссии под председательством А.С.Енукидзе внести соответствующие изменения в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы и в другие документы. В пакет решений, принятых 10 июля, входили помимо этого постановления об укреплении кадров суда и прокуратуры, о коллегиях защитников и т.д.”
Постановление об организации НКВД преподносилось пропагандой, да и воспринималось народом, как знак определенной демократизации, гарантии укрепления роли закона. “Правительство Союза, — комментировала решение от 10 июля редактируемая Бухариным газета “Известия”, — постановило организовать Наркомвнудел СССР, влив в него ОГПУ и изъяв судебные дела. Это значит, что враги внутри страны в основном разгромлены и разбиты; это значит, что борьба, которая еще отнюдь не кончена, будет продолжаться, но в значительной мере уже другими методами; это значит, что в огромной степени возрастает роль революционной законности, точных, фиксированных законом правил; это значит, что возрастает роль судебных учреждений, которые разбирают дела согласно определенным нормам судопроизводства… Теперь враги разбиты, поражены, обезглавлены, рассеяны в решающих пунктах борьбы, а пролетарская диктатура меняет характер своих методов борьбы, переходя в значительной мере к методам судопроизводства и в гораздо большей степени опираясь на точные формулы революционного закона”24.
Порождая у современников многочисленные надежды, “потепление” 1934 г. вызывает у историков столь же многочисленные вопросы. Один из главных — кто стоял за новым поворотом “генеральной линии”, каким был расклад сил в этот период в высших органах власти, прежде всего, в Политбюро.
2. Политбюро XVII созыва
“Потепление” 1934 г. состоялось без особых изменений в высших эшелонах власти. Политбюро, сформированное после XVII съезда, по своему составу почти не отличалось от Политбюро, избранного после XVI съезда ВКП(б) в 1930 г. Из членов Политбюро прежнего XVI созыва в 1934 г. лишь один Я.Э.Рудзутак был “понижен” до кандидата в члены Политбюро, что было, видимо, связано с его недостаточной деловой активностью (подробнее об этом см. стр. 233). Новым кандидатом в члены Политбюро в 1934 г. стал П.П.Постышев, что, напротив, было наградой за активную деятельность на Украине, куда Постышева послали в 1933 г. вторым секретарем ЦК КП(б)У для “укрепления руководства”.
Судя по известным фактам, не произошло также существенных изменений в распределении обязанностей между членами Политбюро. После XVII съезда ВКП(б) Л.М.Каганович, по всем признакам, сохранил свою позицию заместителя Сталина по партии. Подлинники протоколов Политбюро показывают, что Каганович был автором многих постановлений Политбюро, что во время отпусков Сталина он по-прежнему руководил работой Политбюро и всего аппарата ЦК. Каганович председательствовал во многих комиссиях Политбюро, рассматривал и решал от имени Политбюро важнейшие политические и экономические вопросы. В 1934 г. Каганович занял несколько новых важных постов. Оставаясь вторым секретарем ЦК, он был назначен председателем Комиссии партийного контроля — нового руководящего партийного органа, созданного по решению XVII съезда партии вместо Центральной контрольной комиссии. 15 февраля 1934 г. во изменение прежнего решения от 18 августа 1933 г. Политбюро утвердило новый состав совместной комиссии ЦК и СНК по железнодорожному транспорту: Л.М.Каганович (председатель), И.В.Сталин, В.М.Молотов, А.А.Андреев, Г.К. Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов и заместитель наркома путей сообщения Г.И.Благонравов25. 10 марта были назначены заведующие отделами ЦК ВКП(б). Кагановича на посту заведующего сельскохозяйственным отделом заменил новый секретарь ЦК А.А.Жданов; Каганович же стал заведующим транспортным отделом ЦК26. Эти перемещения свидетельствовали о том, что Каганович по-прежнему считался одним из наиболее деятельных лидеров партии. После того как положение в сельском хозяйстве относительно нормализовалось, его “бросили” на другой сложный и традиционно отстающий участок — на транспорт.
О сохранении прежней иерархии в руководстве партии свидетельствовало очередное распределение обязанностей между секретарями ЦК, произведенное 4 июня 1934 г. Сталину поручалось наблюдение за отделом культуры и пропаганды, Особым сектором27 и Политбюро. Каганович руководил работой Оргбюро, промышленного и транспортного отделов, комсомола и Комитета партийного контроля. Жданов контролировал сельскохозяйственный, планово-финансово-торговый, политико-административный отделы, отдел руководящих парторганов, Управление делами и Секретариат ЦК28. Большое количество обязанностей заставило Кагановича обратиться в Политбюро с просьбой об освобождении от заведования транспортным отделом. 9 июля 1934 г. Политбюро удовлетворило эту просьбу, хотя оставило за Кагановичем “наблюдение и общее руководство этим отделом”29.
Формально секретарем ЦК ВКП(б) после XVII съезда был избран также секретарь ленинградского обкома, член Политбюро С.М.Киров, однако, фактически он оставался в Ленинграде и обязанности секретаря ЦК не выполнял. Эта ситуация сложилась в результате конфликта, который произошел между Кировым и Сталиным. О сути этого конфликта писал в своих воспоминаниях М.В.Росляков, в 1934 г. руководивший финорганами Ленинградской области (Росляков ссылался на рассказы самого Кирова и председателя Ленсовета И.Ф.Кодацкого). “Съезд (XVII съезд ВКП(б). — О.Х.) закончился 10 февраля, и в тот же день состоялся Пленум ЦК для формирования руководящих органов партии, — сообщал Росляков. — Как и полагается, прежде чем внести какие-либо организационные вопросы на Пленум, их предварительно обсуждают на Политбюро. Так было и в тот раз. Все шло гладко, согласованно. Когда стали обсуждать кандидатуры секретарей ЦК, то Сталин внес предложение избрать одним из секретарей С.М.Кирова, с освобождением его от работы в Ленинграде. Сергей Миронович решительно возразил против этого, выдвинув основным мотивом — дайте поработать в Ленинграде еще пару лет, чтобы вместе с ленинградскими товарищами выполнить вторую пятилетку; были ссылки и на неподготовленность к работе в центре, на состояние здоровья. Сталин настаивал на своем предложении, мотивируя его необходимостью укреплять рабочий аппарат ЦК, выдвигая более молодых, учитывая его, Сталина, возраст (ему было тогда 54 года). Кирова поддержал энергично Серго (Орджоникидзе. — О.Х.), мотивируя в основном проблемами тяжелой промышленности, которые решает Ленинград. Куйбышев также высказался в пользу соображений Кирова.
Сталин, видя, что его предложение не встречает полного и привычного согласия, разгневался и “в сердцах” ушел с заседания. Товарищи, понимая отлично, что вопрос все равно надо решать, предложили Кирову идти к Сталину и искать вместе приемлемый выход. Какие были разговоры у Кирова со Сталиным, вряд ли точно кто-либо знает, но Киров настаивал на своем, и было принято компромиссное решение: Кирова избирают секретарем ЦК, но с оставлением в Ленинграде секретарем Ленинградского обкома. А для работы в ЦК берут А.А.Жданова из Горького. Насколько этот вариант оказался неожиданным даже для членов Политбюро, видно из того, что с переходом Жданова в Москву в Горьковской парторганизации не оказалось бы ни члена ЦК, ни кандидата в члены ЦК, а ведь она считалась одной из крупнейших. Было решено секретарем Горьковского обкома рекомендовать Э.К.Прамнэка, члена партии с марта 1917 года, в прошлом рабочего завода “Красная Этна”. Эдуард Карлович более 15 лет проработал в руководящих органах Горьковского края. Но Прамнэк в состав ЦК не выдвигался. Как быть? И тогда кандидатуру Прамнэка голосуют после окончания съезда опросом делегаций. (Поэтому в списке избранных кандидатов в ЦК Прамнэк идет последним, под номером 68) “30.
Мемуары Рослякова вообще отличаются высокой степенью достоверности. Кроме того, как показала А.А.Кирилина, архивные документы подтверждают его рассказ: в списках членов и кандидатов в члены ЦК, присутствовавших на первом заседании пленума ЦК нового созыва 10 февраля 1934 г., фамилии Прамнэка не было31. Назначение же секретарем ЦК А.А. Жданова по всем признакам действительно не входило в первоначальные планы и создало ряд формальных проблем, в частности, привело к нарушению уставных норм в работе Политбюро. Жданов, не будучи даже кандидатом в члены Политбюро, в силу своей должности принимал участие во всех заседаниях Политбюро и в голосовании решений Политбюро опросом. Более того, в сентябре 1934 г. в отсутствие Сталина и Кагановича, Жданов фактически руководил работой Политбюро — именно он подписывал подлинники постановлений Политбюро за этот период, это подтверждает экспертиза подписи. На имя Жданова приходили письма по различным вопросам, которые рассматривались затем Политбюро32. Этого можно было бы избежать, если бы Киров был реально действующим секретарем.
Вес эти факты позволяют утверждать, что конфликт по поводу назначения Кирова в Москву действительно произошел. Однако ничего необычного в этом столкновении не было. Мотивы Сталина, настаивавшего на назначении Кирова, очевидны: после перевода Постышева на Украину в ЦК действительно был нужен новый, энергичный секретарь, отвечающий за крайне важные участки работы. Не исключено, что Сталин хотел также несколько уравновесить влияние Кагановича (что он сделает в 1935-1936 гг.) и по этой причине также хотел видеть на посту секретаря ЦК члена Политбюро. Не менее понятны возражения Кирова. Переезд в Москву означал для него ломку привычного, сложившегося за восемь лет ритма жизни, погружение в сложные московские дрязги и проблемы. Вполне возможно, что Кирова не устраивал переход под непосредственное подчинение к Кагановичу, который в руководящей иерархии стоял на ступень выше Кирова. Можно напомнить также, что перемещения высших руководителей на новые должности в конце 1920-х-начале 1930-х годов достаточно часто сопровождались конфликтами и скандалами. Известно, что сам Киров с большой неохотой переезжал в 1926 г. из Баку, где он занимал пост секретаря компартии Азербайджана, в Ленинград. Большим скандалом сопровождался перевод Орджоникидзе в том же 1926 г. из Закавказья в Москву на пост председателя ЦКК ВКП(б)33. Неоднократно, как уже говорилось, о намерении подать в отставку со своих постов заявляли другие члены Политбюро. В общем, конфликт между Сталиным и Кировым был типичным бюрократическим столкновением, за которым не просматриваются какие-либо политические разногласия. Скорее всего, Киров выторговал некоторое время для завершения дел в Ленинграде, и Сталин согласился отложить его переезд в Москву. Хотя Кирову, как свидетельствуют данные книги записи посещений кабинета Сталина, в 1934 г. приходилось бывать в Москве гораздо чаще, чем в предшествующий период (см. приложение 4).
Компромисс по поводу нового назначения Кирова вполне соответствовал традиции разрешения такого рода разногласий, сложившейся в Полибюро в начале 30-х годов. В этом смысле он может служить некоторым подтверждением сохранения в Политбюро и в 1934 г. относительного статус-кво. Косвенно об этом свидетельствуют также данные о посещении членами Политбюро кабинета Сталина (см. приложение 4). В 1934 г., как и в предыдущие три года, чаще и дольше других у Сталина бывали Молотов и Каганович. Третью строку в этом списке, как прежде Постышев, занимал Жданов, сменивший Постышева на посту секретаря ЦК.
Правда, в последнее время в российской печати широкое распространение получила версия иного рода — об ослаблении власти Сталина накануне убийства Кирова, о нарастании оппозиционности по отношению к вождю ряда членов Политбюро. В подтверждение этой версии приводится рассказ о крупном скандале, якобы, происходившем в Политбюро в сентябре 1934 г. Суть этого рассказа такова: “Политбюро приняло решение о крупной модернизации армии. Оно держалось в строжайшей тайне. И вдруг, вскоре после этого, поступили сведения, что иностранные разведки, а особенно германская, уже знают о принятом решении и усиленно добывают информацию о том, как оно осуществляется. Тухачевский, который руководил модернизацией армии, дал задание выяснить, где произошла утечка сведений о наших секретных мерах. Оказалось, от самого … Сталина, который в полуофициальной беседе с чешскими представителями похвастался, что проводимая под его руководством реорганизация Красной Армии не только поставит советские вооруженные силы на один уровень с европейскими, но и превзойдет последние. Он хотел приписать себе и заслуги модернизации. Узнав об этом, Тухачевский пошел к Куйбышеву. Тот позвонил Орджоникидзе. Услышав о поступке Сталина, Орджоникидзе коротко сказал: “Ишак”. Он согласился с мнением Куйбышева, что вопрос о нетактичном поведении Сталина надо поставить на закрытом заседании Политбюро. Валериан Владимирович взял на себя подбор всех фактов, которые должны были быть поставлены в упрек Сталину.
Разговор Тухачевского с Куйбышевым и Орджоникидзе произошел в середине сентября 1934 года. В конце этого же месяца на закрытом заседании Политбюро Сталину пришлось не только выслушать много неприятных вещей, но и вдруг почувствовать некоторую шаткость своего положения. Если бы Молотов и Енукидзе не воздержались при голосовании и не выступил бы с примирительной речью незлобивый Калинин, Сталину могли бы даже объявить взыскание”34.
Как обычно в таких случаях, происхождение этой истории установить невозможно. Н.А.Зенькович, из книги которого взята вышеприведенная цитата, глухо ссылается на писателя В.Карпова. Некоторое время спустя этот же рассказ, вообще без ссылки на источник, повторил в своем выступлении в газете “Московские новости” (№ 5, 22-29 января 1995. С. 14) сын Куйбышева Владимир Валерьянович. Очевидно, перед нами очередная легенда, плод устного исторического творчества. Живучесть подобного рода интригующих легенд, вероятно, предопределена тем, что они дают непротиворечивые ответы на непонятные исторические вопросы. Действительно, если скандалы, подобные описанному, имели место, то все известные события конца 1934—начала 1935 г. выстраиваются в логичную цепочку: нападки членов Политбюро на Сталина — устранение нападающих (сначала Кирова, потом, в январе 1935 г., Куйбышева). Возможно, пишет по этому поводу Зенькович, скандал сентября 1934 г. в Политбюро “ускорил ход дальнейших событий. После этого заседания Сталин, наверное, решил, что не стоит подвергать себя подобной опасности в будущем”. Понятны также причины, по которым эти рассказы охотно “подтверждает” сын Куйбышева. Мы же, по существу, получили новый вариант “конфликта по делу Рютина”.
Как обычно, легко растиражированная и неоднократно повторенная, очередная легенда не вызвала никаких вопросов у ее публикаторов. Между тем многие несуразности рассказа лежат, как говорится, на поверхности. Совершенно невероятным образом приплетен к истории Енукидзе, которого, и случись подобное закрытое заседание Политбюро, никто не допустил бы даже в прихожую зала заседаний. Только обладая значительной фантазией, можно вообразить то нечто особенное, что Сталин в принципе мог рассказать о модернизации Красной армии “чешским представителям”. Может быть, он демонстрировал им чертежи или выдал дислокацию оборонных предприятий? Крайняя скупость легенды на подобные детали вовсе неслучайна. Если довести этот миф до логического конца, то получится, что Сталина обвиняли в том, что он похвастался ростом боевой мощи советских вооруженых сил. Правда, об этом постоянно, и особенно активно ежегодно 23 февраля, писали все советские газеты. Наконец, по понятным причинам авторы легенды не знали о графике отпусков членов Политбюро. А если бы знали, то, несомненно, “перенесли” бы “скандал” на другое время, потому что весь сентябрь (а также август и октябрь) Сталин находился в отпуске на юге35, откуда, кстати, писал своим соратникам строгие наставляющие письма.
Но даже не эти несуразности, в конечном счете, имеют значение для оценки подобных предположений о шаткости положения Сталина. Главное, что пока нет решительно никаких свидетельств о каком-либо изменении расклада сил в Политбюро в 1934 г. Ничего подобного осуждению Сталина или даже легкому порицанию его за проступок в Политбюро в это время не могло быть в принципе. Сталин по-прежнему держал под контролем все важнейшие политические и экономические акции и обладал правом решающего голоса. Другое дело, что и члены Политбюро представляли собой пока относительную политическую величину. В общем, характеризуя ситуацию в Политбюро в 1934 г., можно было бы с незначительными оговорками повторить оценки, данные в предыдущем разделе применительно к 1931-1933 гг.
К числу этих оговорок, возможно, следует отнести дальнейшее упрощение прежнего порядка функционирования Политбюро как коллективного органа, подотчетного ЦК, которое наблюдалось после XVII съезда ВКП(б). Первое заседание Политбюро XVII созыва состоялось 20 февраля 1934 г. На нем, как и прежде на очередных заседаниях, помимо членов и кандидатов в члены Политбюро присутствовала большая группа членов ЦК, кандидатов в члены ЦК, а также члены бюро Комиссий партийного и советского контроля. В дальнейшем такие очередные заседания проводились все реже. Всего за 1934 г. (с 20 февраля по 27 декабря, когда прошло последнее очередное заседание 1934 г.) было созвано всего 16 очередных заседаний Политбюро XVII созыва, причем в сентябре и ноябре состоялось только одно такое заседание, а в октябре их не было вообще. Основная масса вопросов, выносимых на рассмотрение Политбюро, решались либо опросом членов Политбюро, либо на неофициальных встречах членов Политбюро у Сталина. Возможно, именно это обстоятельство объясняет тот факт, что в журналах записи посещений кабинета Сталина в 1934 г., зафиксировано намного больше, чем в предшествующий период, визитов к Сталину практически всех членов Политбюро (см. приложение 4).
Некоторые дополнительные возможности для наблюдений по поводу фактической процедуры деятельности Политбюро дают подлинники протоколов Политбюро за 1934 г. Они показывают, например, что большое количество постановлений Политбюро были написаны рукой заведующего Особым сектором ЦК А.Н.Поскребышева, а под текстом постановления шли сделанные его же рукой приписки: “т. Стал. Мол. Каг. — за (А[лександр] Поскребышев])” или “т. Стал. Мол. Каган. Вор. — за” и т.д. Ниже на том же листе секретарем фиксировались результаты опроса других членов Политбюро, например: “т. Куйбышев — за, т. Калинин — за” и т.д. Такой порядок оформления позволяет предположить, что эти постановления фактически обсуждались и принимались той группой членов Политбюро, фамилии которых записывал Поскребышев (чаще всего это были Сталин, Каганович, Молотов). Поскребышев вызывался или, как правило, присутствовал на таких “узких” заседаниях и записывал принятые на них решения.
Значительная часть оригиналов постановлений Политбюро за 1934 г. представляет собой автографы Поскребышева или его заместителя Б.Двинского, но без каких-либо упоминаний о голосовании членов Политбюро. Вполне возможно, что в ряде случаев подписи членов Политбюро сохранились на инициирующих решения документах (проектах постановления, письмах, докладных и т.д.), которые хранятся среди материалов к протоколам Политбюро в Президентском архиве. Однако во многих случаях на подлинниках есть указания о том, что таких материалов не было вообще. А это означает, что определенная, достаточно значительная часть постановлений Политбюро принималась вообще без голосования членов Политбюро. Поскребышев или Двинский записывали решения, продиктованные кем-либо из высших руководителей ЦК (скорее всего, Сталиным), и они оформлялись как решения Политбюро. В сентябре 1934 г. в подлинниках протоколов на многих постановлениях появилась отметка: “без опроса”. Такие постановления визировал только Каганович (Сталин в это время был в отпуске), а в его и Сталина отсутствие — Жданов36.
Все эти факты позволяют говорить о дальнейшем упрощении деятельности Политбюро, все большем превращении его из относительно коллективного органа в формальный придаток системы принятия решений, ориентированной на единовластие вождя. Такое положение не было особенностью 1934 г. В это время в работе Политбюро лишь усилились тенденции, наметившиеся в предшествующий период.
Кадровая стабильность, сохранение прежнего распределения политических ролей и порядка деятельности Политбюро позволяют предположить, что “потепление” 1934 г. не являлось результатом выдвижения на первый план каких-либо новых политических лидеров, а было следствием упрочения “умеренной” линии, признаки которой обнаруживались в предшествующие годы. Соответственно правомерно предположить, что прежним остался механизм принятия важнейших решений и порядок инициирования “реформ”. По этим вопросам в литературе существует большое количество различных мнений и интересных исследований.
3. Сталин и Киров
Рассматривая проблему авторства “умеренных” инициатив, прежде всего, конечно, следует упомянуть о “кировской” теме. Обстоятельства убийства С.М.Кирова и последовавшего за ним резкого ужесточения политического курса, как говорилось выше, заставляют предполагать, что Киров мог выдвигать и отстаивать “умеренную” политическую программу, а соответственно притягивать к себе силы, настроенные оппозиционно по отношению к Сталину37. По мнению историков-“скептиков”, Киров был и до последнего момента оставался верным сторонником Сталина, никогда не рассматривался в партии как политический деятель, соизмеримый со Сталиным, а соответственно не имел никаких отличных от сталинских политических программ. Ф.Бенвенути, например, изучив опубликованные выступления Кирова и официальную советскую прессу, пришел к выводу, что Киров может рассматриваться только как один из сторонников “умеренного” курса, признаки которого действительно существовали в 1934 г. На самом деле “новую” политику поддерживали в основном все советские вожди38. Некоторое время спустя Дж.А.Гетти пришел к выводу, что Киров не был значительной политической фигурой. В лидеры сторонников “умеренной” линии 1934 г. Гетти выдвинул Орджоникидзе и Жданова39.
Какими же фактами располагают в настоящее время историки для разрешения этих вопросов? Одним из источников, питающих предположения о существовании относительно независимой “политической платформы” Кирова являются мемуары Н.С.Хрущева, а также свидетельства некоторых членов комиссии, созданной после XX съезда КПСС для изучения обстоятельств убийства Кирова (материалы самой комиссии пока не изданы и недоступны для исследователей), а также воспоминания некоторых старых большевиков — участников XVII съезда ВКП (б). Все эти данные попали в книги историков и благодаря этому получили широкое распространение40. Если отвлечься от многочисленных расхождений в этих рассказах, то в целом из них складывается следующая картина. Во время XVII съезда ВКП (б) ряд высокопоставленных партийных деятелей (фамилии называют разные — Косиор, Эйхе, Шеболдаев, Орджоникидзе, Петровский и т.д.) обсуждали планы замены Сталина на посту генерального секретаря Кировым. Киров отказался от предложения, а об этих разговорах стало известно Сталину (иногда пишут, что Киров сам рассказал о них Сталину, предопределив тем самым собственную судьбу). При выборах ЦК на XVII съезде, по свидетельству некоторых членов счетной комиссии, против Сталина проголосовали многие делегаты (цифры опять же называют разные — от 270 до 300). Сталин, узнав об этом, приказал изъять бюллетени, в которых была вычеркнута его фамилия, и публично на съезде объявить, что против него подано всего три голоса. Если историки, разрабатывающие версию “оппозиционности” Кирова, склонны доверять этим свидетельствам, то историки, отрицающие роль Кирова как сколько-нибудь самостоятельного политического деятеля и причастность Сталина к его убийству, опровергают подобные рассказы очевидцев как вымысел . Пока приходится признать, что документы, при помощи которых можно было бы окончательно опровергнуть или подтвердить эти версии, неизвестны.
Что касается политической карьеры Кирова, то она дает мало аргументов в пользу предположений о его независимой (а тем более, принципиально отличной от сталинской) политической позиции. Киров, как и другие члены Политбюро 30-х годов, был человеком Сталина. Именно по настоянию Сталина Киров занял пост руководителя второй по значению партийной организации в стране, что гарантировало ему вхождение в высшие эшелоны власти. Помимо хороших личных отношений с Кировым, для Сталина, не исключено, определенное значение имел тот факт, что Киров был политически скомпрометированным человеком. В партии знали, что Киров в дореволюционные годы не только отошел от активной деятельности, не только не примыкал к большевикам, но занимал небольшевистские, либеральные политические позиции, причем, будучи журналистом, оставил многочисленные следы этого своего “преступления” в виде газетных статей. Весной 1917 г., например, он проявил себя как горячий сторонник Временного правительства и призывал к его поддержке42.
Воспользовавшись этими фактами, в конце 1929 г. группа высокопоставленных руководителей Ленинграда (в том числе председатель Ленсовета и руководитель областной контрольной комиссии ВКП(б)) потребовали у Москвы снять Кирова с должности за дореволюционное сотрудничество с “левобуржуазной” прессой. Дело рассматривалось на закрытом совместном заседании Политбюро и Президиума ЦКК ВКП(б). Во многом благодаря поддержке Сталина Киров вышел из этого столкновения победителем. Его противники были сняты со своих постов в Ленинграде. Однако в решении заседания Политбюро и Президиума ЦКК (оно имело гриф “особая папка”) предреволюционная деятельность Кирова была все же охарактеризована как “ошибка”43.
Несколько лет спустя в известной “платформе Рютина” Киров был поставлен в один ряд с бывшими противниками большевиков, которые в силу своей политической беспринципности особенно верно служили Сталину. “Наши оппортунисты тоже сумели приспособиться к режиму Сталина и перекрасились в защитный цвет… Гринько (нарком финансов СССР. — О.Х.), Н.Н.Попов (один из руководителей “Правды”. — О.Х.) — бывшие меньшевики, столь хорошо известные Украине, Межлаук — зам. пред. ВСНХ, бывший кадет, потом меньшевик, Серебровский — зам. пред. Наркомтяжа, бывший верный слуга капиталистов (видимо, имелась в виду работа Серебровского как инженера на частных предприятиях в дореволюционной России. — О.Х.), Киров — член Политбюро, бывший кадет и редактор кадетской газеты во Владикавказе. Все это, можно сказать, столпы сталинского режима. И все они представляют из себя законченный тип оппортунистов. Эти люди приспособляются к любому режиму, к любой политической системе”44. Через несколько десятков страниц авторы “платформы” повторили выпады против Кирова. Заявляя о безнаказанности “верных чиновников и слуг” Сталина, они напоминали: “Всем известно, чем кончилась попытка ленинградцев разоблачить Кирова, как бывшего кадета и редактора кадетской газеты во Владикавказе. Им дали “по морде” и заставили замолчать. Сталин… решительно “защищает своих собственных мерзавцев””45.
В этих обвинениях в адрес Кирова и других “оппортунистов” была значительная доля истины. Сталин действительно предпочитал опираться на людей, имевших “пятна” в политической биографии. Вспомним, например, бывшего меньшевика Вышинского или Берия, обвиняемого с начала 20-х годов в сотрудничестве с мусаватистской разведкой. Причем, время от времени Сталин действительно напоминал своим соратникам об их “грехах” и особенно часто делал это в период обострения политической ситуации (см. с. 240, 245).
Трудно сказать, в какой мере прошлый “оппортунизм” влиял на Кирова, но, судя по документам Политбюро, он вел себя не как полноправный член Политбюро, а, скорее, как влиятельный руководитель одной из крупнейших партийных организаций страны. Инициативы Кирова ограничивались нуждами Ленинграда (требования новых капиталовложений и ресурсов, попытки предотвратить перевод ленинградских работников, просьбы об открытии новых магазинов и т.п.). В Москве, на заседаниях Политбюро Киров бывал крайне редко. Столь же редко (видимо, прежде всего по причинам удаленности) участвовал в голосовании решений Политбюро, принимаемых опросом. В общем, из доступных пока документов никак не удается вывести не только образ Кирова—лидера антисталинского крыла партии, не только образ Кирова—”реформатора”, но даже сколько-нибудь деятельное участие Кирова в разработке и реализации того, что называется “большой политикой”. Кстати, Хрущев, столь много сделавший для создания вокруг Кирова ореола таинственности, писал в мемуарах: “В принципе Киров был очень неразговорчивый человек. Сам я не имел с ним непосредственных контактов, но потом расспрашивал Микояна о Кирове… Микоян хорошо его знал. Он рассказывал мне: “Ну, как тебе ответить? На заседаниях он ни разу ни по какому вопросу не выступал. Молчит, и все. Не знаю я даже, что это означает””46.
Известные пока сведения о разработке и проведении “реформ” также скорее подтверждают точку зрения Ф.Бенвенути о том, что руководство страны в период “потепления” 1934 г. выступало единым фронтом. Причем, как и в предшествующий период, главным инициатором всякого рода преобразований был Сталин.
Одним из важнейших индикаторов “потепления” с полным основанием считается отмена карточной системы на хлеб согласно решению пленума ЦК ВКП(б) в ноябре 1934 г. Это событие положило начало отмене карточек в целом, значительной переориентации экономической политики от преимущественно административно-репрессивного к смешанному административно-“квазирыночному” регулированию экономики. Некоторые сторонники версии о реформаторстве Кирова относят ноябрьское решение об отмене карточек на хлеб на счет именно ленинградского секретаря. Источник этого предположения, видимо, содержится в известной книге А.Орлова47. По свидетельству Орлова, весной и летом 1934 г. у Кирова начались конфликты со Сталиным и другими членами Политбюро. Одно из столкновений произошло якобы по вопросу о снабжении Ленинграда продовольствием. Киров без разрешения Москвы использовал неприкосновенные фонды ленинградского военного округа. Ворошилов выразил недовольство этим на заседании Политбюро. Киров ответил, что действия эти были вызваны крайней нуждой и что продовольствие будет возвращено на склады, как только прибудут новые поставки. Ворошилов, якобы чувствуя поддержку Сталина, заявил, что Киров “ищет дешевой популярности среди рабочих”. Киров вспылил и заявил, что рабочих нужно кормить. Микоян возразил, что ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране. “А почему, собственно, ленинградские рабочие должны питаться лучше всех остальных?” — вмешался Сталин. Киров снова вышел из себя и закричал: “Я думаю, давно пора отменить карточную систему и начать кормить всех наших рабочих как следует!”4
Документы, подтверждающие рассказ Орлова, неизвестны. Однако конфликты между ленинградскими руководителями (как, впрочем, и руководителями других регионов) и Москвой, по поводу распределения ресурсов и использования государственных фондов, были постоянными и начались вовсе не с весны 1934 г. Особой интенсивности такие столкновения достигли в период голода 1932-1933 гг. (протоколы Политбюро за этот период переполнены решениями по поводу ходатайств с мест, в том числе Ленинграда, об увеличении лимитов централизованного снабжения и снижении планов заготовок). Много подобных конфликтов было и в 1934 г. 5 января 1934 г. Политбюро опросом приняло решение в связи с перерасходом в третьем-четвертом кварталах 1933 г. хлеба по Ленинграду на 5 тыс. тонн по сравнению с утвержденным планом. По предложению наркома земледелия Чернова Политбюро списало эту задолженность, но обязало ленинградский обком и облисполком впредь никаких перерасходов не допускать49. В тот же день, 5 января, по требованию Сталина Политбюро запретило открывать в Ленинграде универмаг для продажи промышленных товаров повышенного качества. Эту просьбу Кирова (он прислал в Москву специальную телефонограмму) поддержали и нарком легкой промышленности Микоян, и Молотов. Однако Сталин продиктовал отрицательное решение: “Я против. Открыть лишь тогда, когда мы получим гарантию того, что имеется товаров не менее, чем на 6 месяцев”. Сталинское требование было принято Политбюро .
В архиве Совнаркома сохранились материалы еще об одном конфликте такого рода между ленинградскими и центральными властями — по поводу незаконного расходования ленинградскими руководителями части продовольственных фондов. Речь шла о том, что ленинградцы получили в Москве несколько сот тонн мяса и консервов (на 653 тыс. руб. по государственным ценам), продали их по повышенным ценам (на 1143 тыс. руб.), а разницу (490 тыс. руб.) направили на развитие местных свиносовхозов. Операция эта была незаконной, но вполне обычной. Местные руководители, директора предприятий регулярно обходили существующие правила и законы для получения необходимых финансовых ресурсов, сырья и материалов. Широкое распространение, например, в 30-е годы получили так называемые товарообменные операции, когда предприятия обменивались своей продукцией помимо утвержденных централизованных фондов и т.д. Несмотря на строгие указания правительства, такие нарушения приобрели всеобщий характер, потому что без них экономическая система просто не смогла бы работать. Время от времени, однако, некоторых нарушителей привлекали к ответственности. Очередной жертвой кампании по “наведению порядка” как раз и стали ленинградские руководители.
Каким-то образом в СНК СССР стало известно, что по распоряжению заместителя председателя Ленсовета Иванченко от 11 февраля 1934 г. был создан специальный счет, куда перечислялись деньги, полученные от реализации по коммерческим ценам сравнительно небольшого количества продуктов, специально выделенных Наркоматом снабжения СССР. Суть этой акции была достаточно простой. Ленинградцы, скорее всего, требовали в Москве денег для развития местных свиноводческих совхозов. В Москве денег не дали (получение дополнительных капиталовложений было сложной и длительной процедурой), но пообещали выделить дополнительные продовольственные фонды для продажи. Такая операция была более простой и быстрой, чем прямое получение средств. Однако довести эту операцию до конца не удалось.
3 марта 1934 г. Молотов послал председателю Ленсовета, одному из ближайщих сотрудников Кирова, Кодацкому телеграмму с требованием отменить постановление президиума Ленсовета от 11 февраля и наказать виновных51. На следующий день Кодацкий сообщил телеграммой, что решение отменено, и просил у Молотова разрешения доложить подробности дела не письменно, а при личной встрече в Москве 7 марта. У Молотова эта просьба, свидетельствующая о нежелании Кодацкого наказывать своих сотрудников, вызвала приступ раздражения. Он собственноручно составил и отправил Кодацкому новую телеграмму: “Предложенных Вами личных соображений недостаточно. Чтобы избежать задержки и устранить неясности в деле образования незаконного продфонда Ленсовета, предлагаю немедленно прислать письменные объяснения и сообщение о мерах взыскания в отношении виновных”52. Кодацкий, однако, проигнорировал приказ Молотова (с большой долей вероятности можно предположить, что он советовался с Кировым, прежде чем идти на столь рискованный шаг). Только через полтора месяца окончательно обозленный Молотов послал Кодацкому новую телеграмму: “Считаю совершенно недопустимым игнорирование Вами требования Совнаркома от 5 марта дать письменные объяснения об образовании незаконного продфонда Ленсовета. Ставлю этот вопрос на рассмотрение Совнаркома 21 апреля. Ваше присутствие на Совнаркоме обязательно”53.
21 апреля вопрос действительно в присутствии Кодацкого рассматривался на заседании СНК СССР. Несмотря на чрезвычайно скандальный характер дела и явное неподчинение ленинградских властей правительству, решение Совнаркома было мягким. Президиуму Ленсовета предлагалось наказать работников, участвовавших в образовании фонда. Кодацкому было указано на ошибочность игнорирования указаний СНК о предоставлении письменных объяснений и наказании виновных. Заместителю Наркомснаба СССР М.Беленькому, который разрешил Ленсовету образовать фонд, сделали замечание. Совнарком также поручил Комиссии советского контроля проверить наличие и порядок реализации сверхплановых продовольственных фондов в Ленинграде и других городах, что косвенно свидетельствовало о том, что акция ленинградских руководителей была достаточно распространенным явлением54. Через неделю, 28 апреля, президиум Ленсовета принял чрезвычайно мягкое решение — поставил на вид Иванченко и другим должностным лицам, причастным к образованию фонда55.
Описанные трения между ленинградскими и московскими чиновниками были достаточно типичным явлением, по крайней мере, для первой половины 30-х годов. Местные руководители постоянно требовали у центра новых капиталовложений, дополнительных продовольственных и промышленных фондов и т.д. При этом они снисходительно относились ко всякого рода нарушениям и старались защитить своих людей, если те попадались на совершении противозаконных операций. Киров и его подчиненные в этом смысле вели себя точно так же, как и все другие местные начальники. Противостояние мест и центра по поводу распределения централизованных фондов не было предопределено никакими особыми политическими позициями. Москва в этих конфликтах не выступала как принципиальный приверженец карточного распределения, а места не требовали отмены карточек. Более того, известные сегодня факты позволяют утверждать, что отмена карточной системы осуществлялась именно по инициативе центральных властей, прежде всего, по инициативе Сталина.
Уже в самом начале 1930-х годов высшее партийное руководство объявило карточную систему вынужденной временной мерой. Получивший некоторое распространение лозунг скорого перехода к социалистическому продуктообмену и отмены торговли был осужден как “левацкий”. “…Нормирование не социалистический идеал… От него хорошо бы поскорее избавиться, как только будет достаточно товаров,” — говорил, например, на пленуме ЦК ВКП(б) в октябре 1931 г. нарком снабжения СССР А.И.Микоян56. На XVII съезде партии Сталин уделил проблемам торговли специальное внимание, вновь осудив “левацкую болтовню” “о том, что советская торговля является якобы пройденной стадией, что нам надо наладить прямой продуктообмен”5‘. Находясь в отпуске на юге, Сталин 22 октября писал Кагановичу: “Нам нужно иметь в руках государства 1 миллиард 400-500 мил. пудов хлеба для того, чтобы уничтожить в конце этого года карточную систему по хлебу, недавно еще нужную и полезную, а теперь ставшую оковами для народного хозяйства. Надо уничтожить карточную систему по хлебу (может быть также и по крупам и макарону) и связанное с ней “отоваривание” технических культур и некоторых продуктов животноводства (шерсть, кожа и т.п.)… Эту реформу, которую я считаю серьезнейшей реформой, надо подготовить теперь же, чтобы провести ее полностью с января 1935 года”58.
На ноябрьском пленуме 1934 г. при обсуждении вопроса об отмене карточной системы Сталин вновь подчеркнул значение торговли и денег как важнейших рычагов экономической политики. Выслушав выступавших на пленуме ораторов, которых интересовали прежде всего технические, организационные вопросы отмены карточек, Сталин заявил (речь эта не была опубликована): “Я взял слово для того, чтобы несколько вопросов разъяснить, как я их понимаю в связи с тем, что ораторы, видимо, не совсем представляют, не совсем поняли насчет смысла и значения введения этой реформы. В чем смысл политики отмены карточной системы? Прежде всего в том, что мы хотим укрепить денежное хозяйство… Денежное хозяйство — это один из тех немногих буржуазных аппаратов экономики, который мы, социалисты, должны использовать до дна… Он очень гибкий, он нам нужен… Развернуть товарооборот, развернуть советскую торговлю, укрепить денежное хозяйство, — вот основной смысл предпринимаемой нами реформы.
…Деньги пойдут в ход, пойдет мода на деньги, чего не было у нас давно, и денежное хозяйство укрепится. Курс рубля станет более прочный, бесспорно, а укрепить рубль — значит укрепить все наше планирование и хозрасчет. Никакой хозрасчет немыслим без сколько-нибудь стойкого курса рубля… Некоторый более или менее устойчивый курс рубля должен быть, если хотите, чтобы у нас был хозяйственный расчет, если хотите, чтобы наше планирование было не канцелярским, а реальным”59.
Материалы ноябрьского пленума 1934 г. не подтверждают утверждения Б.Николаевского, что этот пленум был “завершением успехов Кирова”, что “Киров был главным докладчиком и героем дня”60. Если и были “герои дня” на этом пленуме, то к ним, скорее, можно причислить Сталина, Молотова и Кагановича, которые выступили с докладами по принципиальным вопросам и рели себя на пленуме особенно активно. Киров не шел дальше установок, выдвинутых Сталиным. 1 декабря 1934 г., в день своей гибели, Киров должен был выступать на собрании партийного актива с докладом об итогах ноябрьского пленума. Сохранившийся в фонде Кирова конспект выступления показывает, что Киров готовился лишь повторить общие места из речи Сталина: “Промышленность неплохая. Сельское хозяйство. Сомкнуть их товарооборотом. Прямой продуктообмен — рано. Товарооборот не использован, а между тем… без товарооборота… Укрепление хозрасчета… Роль денег… Новый стимул вперед”61.
Ведущую роль, судя по известным фактам, играл Сталин и в реорганизации ОГПУ. Вопрос о создании союзного Наркомата внутренних дел Сталин поставил на первом же заседании Политбюро нового созыва 20 февраля 1934 г. Причем первоначально этот вопрос в повестке не значился и был поставлен лично Сталиным уже на самом заседании. В принятом решении говорилось: “Признать необходимой организацию Союзного наркомата внутренних дел со включением в этот наркомат реорганизованного ОГПУ”62.
Через две недели Политбюро опросом приняло решение о необходимости подготовки проекта положения об НКВД и Особом совещании НКВД и создании для этой цели комиссии под председательством Кагановича. Судя по документам, это было сделано также по инициативе Сталина. Оригинал этого решения Политбюро представляет собой рукописный текст, записанный заведующим Особым сектором А.Н.Поскребышевым карандашом на бланке ЦК ВКП(б). Под формулировкой решения Поскребышев сразу же поставил отметку: “т. Стал. Каг. Мол. – за (А [лександр ] П [оскребышев ])”. Затем на бланке были сделаны пометки о том, что за решение высказались (скорее всего, они опрашивались по телефону) Ворошилов, Андреев, Куйбышев, Микоян, Калинин, Орджоникидзе63.
Порядок оформления этого решения, как уже говорилось выше, дает возможность утверждать, что решение о выработке положения об НКВД и Особом совещании было принято на встрече Сталина, Молотова и Кагановича. Несомненно, Каганович, как председатель созданной комиссии, получил все указания о принципиальных моментах будущего положения об НКВД.
22 июля 1934 г. на таком же совещании Сталина, Молотова, Ворошилова, Чубаря было принято решение об освобождении из заключения П.Г.Петровского, проходившего в 1932 г. сначала по делу так называемого “Союза марксистов-ленинцев” (делу Рютина), а затем, 16 апреля 1933 г., осужденного на три года заключения по делу “бухаринской школы”. Стоит отметить, что текст постановления был написан Молотовым. Его же рукой сделана запись: “За — Сталин, Молотов, Ворошилов, Чубарь”. Затем были опрошены Рудзутак, Калинин и Микоян, пометку о чем на тексте решения поставил технический секретарь64
Настроения членов Политбюро в этот период в какой-то мере передает сопроводительное письмо Ворошилова от 9 июля 1934 г. к проекту решения Политбюро об освобождении из заключения А.Верховского, высокопоставленного военного специалиста, который был арестован как “военный заговорщик”. Обращаясь к Сталину, Ворошилов так прокомментировал просьбу Верховского об освобождении: “Если и допустить, что состоя в рядах Красной Армии Верховский А. не был активным контрреволюционером, то во всяком случае другом нашим он никогда не был, вряд ли и теперь стал им. Это ясно. Тем не менее учитывая, что обстановка теперь резко изменилась (подчеркнуто мной. — О.Х.), считаю, что можно было бы без особого риска его освободить, использовав по линии научно-исследовательской работы”. Политбюро одобрило это предложение Ворошилова65.
Подобные факты (а их перечень можно увеличить) с большой долей уверенности позволяют утверждать, что руководство партии в 1934 г. действительно решило несколько снизить уровень репрессий, отказаться от крайностей государственного террора, усилить роль правовых механизмов. Ничего необычного или необъяснимого в этих намерениях не было. Как уже отмечали историки советского права, периодическое разделение права и террора, более активное использование правовых регуляторов было необходимым условием выживания режима, особенно в периоды, следовавшие за массовым применением террора, угрожавшего подрывом важнейших основ общественной стабильности66.
Наиболее наглядно эти стабилизирующие политические тенденции проявились в отношении высшего руководства страны к ОГПУ-НКВД. В какой-то мере оттенок дискриминации ОГПУ имел сам факт его реорганизации в НКВД, полугодовая подготовка “реформы”, сопровождавшаяся работой многочисленных комиссий, поставившая ОГПУ в положение реорганизационной неопределенности. Продолжая оказывать ОГПУ, как и прежде, полную поддержку, Сталин время от времени одергивал руководителей этой организации выговорами и внушениями. 5 июня 1934 г., например, Политбюро приняло совершенно секретное (под грифом “особая папка”) постановление по поводу одного из дел, подготовленных ОГПУ, — дела Селявкина (суть его из решения неясна). В постановлении отменялись приговоры, вынесенные обвиняемым по делу, а также был сделан выговор руководству ОГПУ и Прокуратуры. Политбюро, в частности, “предложило” “всей руководящей верхушке ОГПУ обратить внимание на серьезные недочеты в деле ведения следствия следователями ОГПУ”67.
Несмотря на то, что при создании НКВД права карательных органов были законодательно несколько ограничены, они подвергались дальнейшей “дискриминации” во второй половине 1934 г. Одним из первых сигналов такого рода были обстоятельства рассмотрения в Политбюро вопроса о судах при лагерях НКВД. 9 августа 1934 г. нарком внутренних дел Ягода, согласовав вопрос с руководством союзной прокуратуры и Наркомата юстиции РСФСР, разослал на места телеграмму о создании в лагерях НКВД отделений краевых или областных судов для рассмотрения дел по преступлениям, совершаемым в лагерях68. Основные положения телеграммы противоречили постановлениям Политбюро о реорганизации судебной системы. Особенно вызывающе выглядели предложения НКВД о порядке согласования приговоров к расстрелу. Если правила судопроизводства, одобренные в июле Политбюро, предусматривали возможность кассационного обжалования приговоров о высшей мере и сложную систему их утверждения (в том числе комиссией Политбюро по судебным делам), то телеграмма Ягоды запрещала кассационные обжалования и требовала согласовывать приговоры к расстрелу только с областными (краевыми) прокурорами и судами.
4 сентября заместитель прокурора СССР Вышинский обратился к Жданову с просьбой рассмотреть вопрос об отмене циркуляра от 9 августа. Его поддержал заместитель наркома юстиции, председатель Верховного суда РСФСР Булат, который доказывал неправомочность не только установленного в телеграмме от 9 августа порядка согласования расстрельных приговоров, но и вообще создания при лагерях отделений краевых судов”9. Поскольку дело затягивалось, Вышинский проявил настойчивость и 25 сентября обратился в ЦК повторно, на этот раз к Кагановичу70. Каганович поручил рассмотреть вопрос Жданову, и дело сдвинулось с места. 7 октября свои возражения на заявления Вышинского прислал в ЦК Ягода. Он доказывал, что лагеря в своем большинстве расположены в отдаленных районах и не имеют регулярной связи не только с Москвой, но и с краевыми центрами, что волокита при рассмотрении дел “самым пагубным образом отразится на поддержании в лагерях должной суровой дисциплины”71.
Несмотря на возражения Ягоды, Политбюро 17 октября отменило циркуляр от 9 августа и поручило Ягоде, Крыленко и Вышинскому подготовить новые предложения по вопросу72. Утвержденное Политбюро 9 ноября 1934 г. постановление об организации отделений краевых (областных) судов при исправительно-трудовых лагерях представляло собой в определенном смысле компромисс. Политбюро согласилось с предложениями Ягоды о создании при лагерях отделений судов, установило упрощенный порядок рассмотрения ими дел (в короткие сроки и без участия сторон), но подтвердило общий порядок утверждения приговоров к высшей мере73.
Сам по себе конфликт по поводу лагерных судов мог бы рассматриваться как малозначительный, если бы не сопровождался другими акциями высшего руководства страны против НКВД. Именно в сентябре, по распоряжению Сталина в Политбюро была создана комиссия, расследовавшая некоторые стороны деятельности чекистов в связи с жалобами, поступившими в ЦК по старым делам о “вредительстве” в системе Наркомата земледелия и Наркомата совхозов СССР и о “шпионско-диверсионной организации”, работавшей якобы на Японию. Эти дела были сфабрикованы ОГПУ еще в начале 1933 г., во время жесточайшего голода, полного провала хлебозаготовок и острого кризиса в обществе. По делу “вредителей” в сельском хозяйстве было арестовано около 100 специалистов-аграрников. Возглавляли “контрреволюционную организацию”, как утверждало ОГПУ, два заместителя наркома земледелия: Ф.М.Конар и А.М.Маркевич, а также заместитель наркома совхозов СССР М.М.Вольф. При судебном рассмотрении этого дела 14 подсудимых отказались от своих “признаний” на следствии. Однако на приговор это не повлияло. 40 человек были приговорены к расстрелу, остальные осуждены на разные сроки лишения свободы74. Из 23 обвиняемых по делу о “шпионаже в пользу Японии” коллегией ОГПУ в марте 1933 г. к расстрелу был приговорен 21 человек75.
Один из репрессированных по делу аграрников, А.М.Маркевич написал из лагеря заявление на имя Сталина, Молотова и прокурора СССР Акулова. В заявлении он жаловался на “неправильные методы ведения следствия в ОГПУ”. “Ягода резко оборвал меня: “Не забывайте, что вы на допросе. Вы здесь не зам. наркома. Не думаете ли вы, что мы через месяц перед вами извинимся и скажем, что ошиблись. Раз ЦК дал согласие на ваш арест, значит мы дали вполне исчерпывающие и убедительные доказательства вашей виновности. Все следователи по моему делу добивались только признания виновности, а все объективные свидетельства моей невиновности отметали”, — писал Маркевич. Одновременно жалобу на имя М.И.Ульяновой прислал один из двух уцелевших осужденных по делу о “шпионаже в пользу Японии”, А.Г.Ревис. Он также сообщал о незаконных методах ведения следствия, о том, что был принужден дать показания под нажимом следователей и в результате уговоров провокатора, подсаженного к нему в камеру. Ульянова переправила письмо Сталину.
Получив эти документы Сталин отдал распоряжение:
“Т.т. Куйбышеву, Жданову.
Обращаю Ваше внимание на приложенные документы, особенно на записку Ревиса. Возможно, что содержание обоих документов соответствует действительности. Советую:
а) Поручить комиссии в составе Кагановича, Куйбышева и Акулова проверить сообщаемое в документах;
б) Освободить невинно пострадавших, если таковые окажутся;
в) Очистить ОГПУ от носителей специфических “следственных приемов” и наказать последних “не взирая на лица”.
Дело, по-моему, серьезное и нужно довести его до конца. И. Сталин”76.
15 сентября Политбюро приняло строго секретное постановление (под грифом “особая папка”) о “деле А.Р. и A.M.” Как и предлагал Сталин, комиссии в составе Кагановича, Куйбышева и Акулова (под председательством Куйбышева, занимавшего тогда пост председателя Комиссии советского контроля) было поручено проверить заявления Ревиса и Маркевича и “представить в ЦК все вытекающие отсюда выводы и предложения”77. 4 октября в состав комиссии был дополнительно введен Жданов, курировавший как секретарь ЦК ВКП(б) деятельность политико-административного отдела ЦК78.
Судя по всему, комиссия готовила данный вопрос основательно. Помимо дела Ревиса и Маркевича были выявлены другие случаи такого рода (в частности, вновь были подняты материалы дела Селявкина, по которому, как уже говорилось, Политбюро приняло решение несколькими месяцами ранее)79. Дополнительные данные поступали, видимо, из прокуратуры. Например, в архиве секретариата Куйбышева сохранилась копия сообщения саратовского краевого прокурора от 31 августа 1934 г., которую переправил Куйбышеву и Жданову заместитель прокурора СССР Вышинский. В своей докладной саратовский прокурор Апетер писал о незаконных методах следствия, которые применяли работники Лысогорского районного отделения НКВД. Выявленная проверка, сообщал Апетер, показала, что для получения необходимых показаний, сотрудники НКВД сажали арестованных в холодную камеру, а потом несколько дней держали на печке, не давали им в течение 6-7 суток хлеба, угрожали расстрелом, заставляли подследственных вытягивать руки, загибали назад голову и зажимали рот, чтобы допрашиваемый не мог дышать, содержали большое количество заключенных в одной камере и т.д. Трое чекистов, признанных виновными, докладывал Апетер, были арестованы80.
В контексте работы комиссии Куйбышева неслучайным выглядит также обращение в Политбюро 25 октября 1934 г. прокурора СССР Акулова. Он сообщал, что проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушения законности руководителями азербайджанского представительства НКВД. Желая организовать шумное дело и отчитаться перед Москвой о своих достижениях, азербайджанские чекисты фабриковали дела о крупных хищениях в торгово-кооперативных организациях, используя своих секретных агентов в качестве провокаторов, а также добиваясь показаний от арестованных “избиениями и другими незаконными методами”. Акулов информировал руководство партии, что уже отдал распоряжение об аресте нескольких сотрудников НКВД в Азербайджане и просил послать в Баку комиссию во главе с представителем ЦК или КПК для проверки НКВД, милиции и прокуратуры республики. Сталин поставил на докладной резолюцию: “За предл [ожение ] Акулова”. 15 ноября 1934 г. было оформлено постановление Политбюро о посылке в Азербайджан специальной комиссии “для тщательной проверки работы и личного состава органов НКВД, милиции и прокуратуры Азербайджана”81.
Располагая подобными фактами и результатами проверок, комиссия Куйбышева готовила проект решения, в котором предусматривалось “искоренение незаконных методов следствия; наказание виновных и пересмотр дела о Ревисе и Маркевиче”82. Появлению такого постановления помешало убийство Кирова. 7 января 1935 г., не дождавшись пересмотра дела, Маркевич, видимо, привезенный в одну из московских тюрем, вновь обратился к Сталину с просьбой об освобождении. “В случае, если у членов комиссии, товарища Куйбышева остались какие-либо сомнения в моей виновности, прошу вызвать и допросить меня еще раз”, — писал он. Сталин наложил на заявление резолюцию: “Вернуть в лагерь” .
Явная подготовка широкомасштабной акции по поводу дел Маркевича и Ревиса, другие решения, ограничивающие произвол НКВД, конечно, не означали, что Сталин принципиальным образом изменил свои позиции в вопросе о государственном терроре. В конце января 1934 г., например, он запретил прокуратуре привлекать к уголовной ответственности двух руководящих работников Шемонаихского района Восточно-Казахстанской области, организовавших убийство на общем собрании колхозников трех “расхитителей колхозной собственности”. Сталин предложил прекратить дело и ограничиться разъяснением “о недопустимости самосудов” . По указанию Сталина, выдвинутому на заседании Политбюро 20 марта 1934 г., специальная комиссия Политбюро разрабатывала вопрос о включении в законы СССР статьи, карающей за измену родине. 8 июня 1934 г. соответствующий закон был принят. Он предусматривал, в частности, что, в случае побега или перелета за границу военнослужащего, совершеннолетние члены его семьи совместно с ним проживающие или находящиеся на иждивении к моменту совершения преступления, подлежали лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные места Сибири сроком на пять лет. В апреле 1934 г. Сталин собственноручно вычеркнул из проекта лозунгов к 1 мая положения о необходимости укрепления “сильной и мощной диктатуры пролетариата”, об “очистке рядов партии от всех ненадежных, неустойчивых, примазавшихся элементов”, в том числе “помощников классового врага — правых и “левых” оппортунистов”, о развитии “революционной бдительности” и поддержании партии “в состоянии мобилизации”85. А в октябре, исправляя проект лозунгов к XVII годовщине революции, Сталин сохранил этот тезис86.
Даже осенью 1934 г., когда кампания по ограничению НКВД достигла, казалось, высшей точки, Политбюро продолжало прежнюю политику поощрения карательных акций. 2 сентября 1934 г., например, Политбюро поручило направить в Новосибирск выездную сессию военной коллегии Верхсуда и приговорить к расстрелу группу работников Сталинского металлургического завода, обвиненных в шпионаже в пользу Японии87. 19 сентября 1934 г. Политбюро нарушило установленный порядок санкционирования расстрелов. По телеграмме Молотова, который находился тогда в Западной Сибири, Политбюро предоставило секретарю Западносибирского обкома Эйхе право давать санкцию на высшую меру наказания в Западной Сибири в течение сентября-октября88. 2 ноября этот срок был продлен до 15 ноября89. 9 ноября Политбюро на время пребывания Куйбышева в Узбекистане предоставило право давать санкции на высшую меру наказания комиссии в составе Куйбышева, секретаря ЦК компартии Узбекистана Икрамова и председателя республиканского Совнаркома Ходжаева. 26 ноября такое же право в других Среднеазиатских республиках (в Туркмении, Таджикистане и Киргизии) получили комиссии, в которые входил тот же Куйбышыв и первые руководители соответствующих республик90. Сосуществование двух тенденций в карательно-правовой политике оставляло вопрос о перспективах политического развития страны открытым.
4. Корректировка второй пятилетки
Значительный материал для наблюдений по поводу реальных механизмов принятия важнейших политических решений дает история утверждения второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.)91. Существенная корректировка пропорций экономического развития — снижение темпов индустриального роста и демонстративное внимание к отраслям группы “Б”, — провозглашенные в новом пятилетнем плане, обстоятельства его утверждения на XVII съезде (слегка завуалированная перепалка между Орджоникидзе и Молотовым) давно заставляют исследователей усматривать в этих событиях некий политический подтекст. Особое внимание в этой связи уделяется В.М.Молотову и Г.К.Орджоникидзе, заявления которых на съезде используются как еще один аргумент в пользу версии о двух противостоящих “фракциях” — радикалов (Молотов) и “умеренных” (Орджоникидзе)92.
Как уже говорилось в предыдущей главе, в связи с нарастанием экономического кризиса руководство страны с середины 1932 г. предприняло попытки сокращения размеров капитальных вложений. На этой почве обострились традиционные противоречия между хозяйственными ведомствами, с одной стороны, и руководством Совнаркома, Госплана и Наркомата финансов, которые занимались распределением ресурсов, — с другой. В этих столкновениях просматривалась одна устойчивая тенденция: наркоматы старались получить максимум капиталовложений и более низкие планы производства, Госплан и Наркомат финансов, поддерживаемые руководством СНК, пытались урезать капитальные вложения и требовали большей отдачи от существующих производственных фондов. В очередной раз это произошло при утверждении второго пятилетнего плана.
Показатели новой пятилетки, разрабатываемой в Госплане, на протяжении 1932 г. неоднократно уменьшались, так как реальное положение советской экономики не оставляло надежд на продолжение политики форсированной индустриализации. В декабре 1932 г. в аппарате Куйбышева был подготовлен проект резолюции к пленуму ЦК партии, которому предстояло подвести итоги первой пятилетки и наметить задания на 1933 г. В первоначальном проекте резолюции, в частности, говорилось: “…Пленум Центрального Комитета считает нужным определить ежегодный рост продукции промышленности в следующем пятилетии в размере 12-16% вместо среднегодовых 20% в первой пятилетке”93. Проект резолюции рассматривался комиссией в составе Сталина, Молотова и Куйбышева, образованной решением Политбюро от 28 декабря 1932 г.. В результате в проекте появился написанный Сталиным новый пункт “От первой ко второй пятилетке”, в котором идея снижения темпов получила идеологическое обоснование. Первый вариант этого пункта в отличие от первоначального проекта резолюции содержал такой пассаж по поводу конкретных показателей прироста промышленной продукции: “а) среднегодовой прирост промышленной продукции для второй пятилетки должен быть запроектирован не 21-22%, как это имело место в первой пятилетке, а несколько меньше — примерно 14%”. Сталин исправил последние слова: “примерно 13-14%” . В таком виде эта цифра вошла в резолюцию, одобренную пленумом96.
Опираясь на решения январского 1933 г. пленума, комиссия Госплана под руководством первого заместителя председателя Госплана В.И.Межлаука в мае 1933 г. предложила сократить среднегодовые темпы прироста промышленной продукции до 13 процентов, а производство чугуна в 1937 г. до 15 млн. тонн97. В этом руководители Госплана пытались заручиться поддержкой Сталина. 28 мая 1933 г. Куйбышев и Межлаук обратились к нему с письмом, обосновывая целесообразность установления 15-миллионой отметки для чугуна и соответствующих показателей для стали и проката. Они доказывали, что ориентация на выплавку 18 млн. тонн чугуна, на чем настаивал НКТП, потребует дополнительных капиталовложений и предопределит ежегодный прирост продукции тяжелой промышленности rta 16 вместо 14 процентов, принятых пленумом. “Ввиду того, что выплавка 15,2 млн. т. чугуна и 11,6 млн. т. проката удовлетворяет потребности других отраслей при заданном/темпе их роста и что эта проектировка достаточно напряжена с точки зрения нового оборудования, особенно в части стали и проката, Госплан просит разрешить вести дальнейшую работу над планом пятилетки на основе указанного лимита”, — заключали свое письмо Куйбышев и Межлаук98.
Следов какого-либо ответа на это обращение обнаружить не удалось. Но похоже, что инициатива руководства Госплана одобрена не была. В июне и июле 1933 г. обсуждения в Госплане исходили из 18-миллионного лимита по чугуну”. Эта же цифра была включена в директивы, представленные XVII съезду партии шестью месяцами позже.
Госплан, тем не менее, продолжал настаивать на понижении уровня капитальных вложений. В июне он предлагал довести инвестиции в 1933-1937 гг. до 97 млрд. руб. по сравнению со 135 млрд. руб., требуемыми наркоматами100. Это были самые низкие из когда-либо обсуждавшихся цифр. Они означали, что ежегодный уровень капиталовложений за пятилетку лишь немного превышал уровень 1933 г. Происхождение этих лимитов неизвестно. Скорее всего, они были намеренно занижены в Госплане ввиду предстоящего “торга” с наркоматами по поводу пятилетки. Действительно, на состоявшихся вскоре обсуждениях лимитов с представителями ведомств руководители Госплана признавали недостаточность капиталовложений и обещали увеличить их. Куйбышев, например, согласился расширить план капвложений по наркомлесу и наркомату путей сообщения101.
Когда комиссии, которым поручалось согласовать разногласия с ведомствами, закончили свою работу, выяснилось, что лимиты по капитальным работам выросли до 120 млрд. руб. Эту новую цифру обсуждали на совещании под председательством Куйбышева 19 июля. Заместитель Куйбышева Г.И.Смирнов, подводя итоги обсуждения, говорил, что 120-миллиардная программа не обеспечена материальными ресурсами, в силу чего требуется ее сокращение по крайней мере до 110 млрд.. 26 июля новое совещание под председательством Куйбышева установило компромиссную “окончательную” цифру — 112,75 млрд. руб.103
В последующие три месяца шло неторопливое ознакомление с наметками пятилетнего плана. “Получил твои материалы к пятилетке, — сообщал с юга Молотов Куйбышеву 16 сентября 1933 г. — Кое-что успею посмотреть. Без сопроводительного текста трудно разобраться, а текст до меня дойдет, видимо, только в Москве”104. Но 15 ноября Политбюро приняло решение о созыве в январе 1934 г. очередного съезда партии. Вторым пунктом повестки дня было намечено рассмотрение второго пятилетнего плана по докладам Молотова и Куйбышева105. Решения об основных параметрах плана нельзя было более откладывать.
Обсуждение тезисов докладов Молотова и Куйбышева на Политбюро было намечено на 20 декабря. В ходе подгототовки и обсуждения тезисов лимиты пятилетки были существенно увеличены. Ежегодный прирост промышленной продукции устанавливался теперь на уровне 18% по сравнению с 13-14%, утвержденными пленумом ЦК в январе 1933 г. План капитальных вложений был увеличен до 133 млрд. руб. по сравнению со 113 млрд., одобренными Госпланом в июле .
Новый проект был, очевидно, подготовлен на уровне Политбюро, возможно, самим Куйбышевым, без участия работников Госплана. 20 декабря, в день, когда Политбюро обсуждало новые предложения, один из руководящих работников Госплана Г.Б. Лауэр послал сердитое заявление Куйбышеву и Межлауку: “Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, — писал Лауэр, — что работа по уточнению плана второй пятилетки организована в Госплане абсолютно неудовлетворительно и не обеспечивает доброкачественных проектировок. Мы получили приказ, чтобы в один день проверить таблицы пятилетки и сдать исправленные. Кое-кто получил дополнительную информацию от тов. Гайстера об изменениях, внесенных Вами в первоначальный план. Эти изменения, однако, настолько серьезны, что отражаются косвенно на всех отраслях и нельзя прямо исправлять таблиц, а нужно заново увязать проектировки каждого сектора (каждой отрасли) с народным хозяйством в целом. Насколько я понимаю, резко изменены темпы роста промпродукции (18 вместо 14%), изменено соотношение А и Б, резко повышены капиталовложения на конечный год (34 м. р. вместо 26 м. р.). Резко повышена продукция машиностроения. Это означает другой баланс стройматериалов, другой баланс металла, другую потребность в топливе и электроэнергии”107. Лауэр предлагал отсрочить доработку плана на несколько дней.
Фактически так и произошло. Новые лимиты были готовы к концу декабря. 31 декабря один из ответственных работников Госплана А.И.Гайстер доложил Сталину о предпринятых изменениях (черновик его записки сохранился в бумагах секретариата Куйбышева). “Согласно указаниям тов. Сталина, — писал Гайстер (это, кстати, позволяет с большой долей вероятности предположить, что увеличение лимитов было предпринято по инициативе Сталина. — О.Х.), — Госплан пересмотрел проектировки по некоторым отраслям НКТП для обеспечения увеличения втрое производства предметов широкого потребления как по легкой и пищевой промышленности, так и соответствующего увеличения производства предметов ширпотреба по НКТП, а также для увеличения снабжения НКПС подвижным составом”. Новый проект, докладывал Гайстер, предусматривал увеличение инвестиций в легкую и пищевую промышленность, увеличение производства локомотивов и вагонов108.
3 февраля 1933 г. Молотов и Куйбышев представили новую версию плана XVII съезду: среднегодовые темпы промышленного роста — 19%, инвестиции за пятилетие — 133,4 млрд. руб. На следующий день, 4 февраля, на утреннем заседании съезда возникла ситуация, которая уже неоднократно повторялась при рассмотрении пятилетних планов (и на XVIконференции в апреле 1929 г., и на XVII конференции в феврале 1932 г.): делегаты, отстаивая интересы своих регионов, стали требовать увеличения строительных программ. Вечером того же дня выступил Орджоникидзе. Он критиковал тех, кто требовал пересмотреть планы и заявил: “Если бы мы пошли сейчас по такой линии, чтобы все то, что требуют наши области и республики, включать в план второй пятилетки, то из этого получилась бы не пятилетка, а что-то другое. (Голос: “Десятилетка”.) Да, получилась бы десятилетка. Мы, товарищи, хотим иметь такую пятилетку, которая при огромнейшем напряжении сил и средств нашей страны была бы выполнена”. Не дав делегатам опомниться, Орджоникидзе выдвинул “встречный план” — сократить среднегодовые темпы роста промышленности в целом с 18,9 до 16,5%. При этом (обратим на этот факт особое внимание) Орджоникидзе подчеркнул, что наметки по капитальным вложениям на пятилетку остаются прежними. Орджоникидзе сообщил также, что все эти поправки согласованы с другими членам Политбюро109. Вскоре после Орджоникидзе с предложениями о сокращении темпов развития отраслей выступили наркомы пищевой промышленности Микоян и легкой промышленности Любимов.
Подводя итоги обсуждения второго пятилетнего плана, Молотов оценил принятые решения о снижении темпов роста как проявление “большевистской осторожности, которая требует серьезного учета всей обстановки, в которой мы живем”110. Но при этом сделал заявление, из которого следовало, что темпы индустриального роста могут и должны повышаться, несмотря на одобренные лимиты пятилетки: “В наших годовых планах во второй пятилетке мы должны обеспечить не только выполнение, но и перевыполнение заданий второй пятилетки. Это должно быть отнесено и к текущему году второй пятилетки. Присоединяясь к предложению о 16,5% ежегодного прироста промышленной продукции на вторую пятилетку, мы должны сохранить полностью, не сокращая ни на один процент, ни на одну десятую процента принятое партией и правительством задание на 1934 г. — второй год пятилетки. А по задание, как известно, определялось в 19%. Это значит, что уже для 1934 г. мы берем повышенное против средних темпов пятилетки задание”111.
Никаких документов, позволяющих выяснить, каким образом возникла “поправка Орджоникидзе”, до сих пор выявить не удается. Однако наличные факты не позволяют рассматривать решение о снижении темпов как результат борьбы двух политических группировок, политического противостояния Молотова и Орджоникидзе. В контексте изложенных выше фактов о составлении пятилетнего плана съездовский эпизод можно рассматривать скорее как продолжение межведомственной борьбы вокруг пропорций производства и капитальных вложений. Нарушенный в результате значительного повышения темпов перед съездом компромисс между Госпланом и хозяйственными наркоматами был восстановлен. Наркоматы получили повышенные лимиты капиталовложений, за что боролись всегда, и более низкие задания по выпуску продукции. Иначе говоря, получая те же деньги, ведомства могли произвести за них меньше продукции. Трудно сказать, что больше подрывало наметившийся поворот к более умеренной экономической политике: попытки ли увеличить темпы экономического роста при высоком уровне капиталовложений, за которыми стояли СНК и Госплан (персонально Молотов), или восторжествовавший подход ведомств (в частности, Орджоникидзе) — снижение темпов роста при сохранении громадных капиталовложений. Во всяком случае, эти конкурирующие точки зрения однозначно невозможно отнести либо к умеренной, либо к радикальной и еще труднее окрасить в политические цвета.
Что касается политики советского руководства в 1934 г. в целом, то она, как показывают вышеприведенные факты, определялась не коренной переменой взглядов и представлений Сталина, не влиянием на него фракции “умеренных” членов Политбюро (существование которой не подтверждается документами), не воздействием на Сталина Горького (как писал Б.Николаевский), а вполне определенными реальностями социально-экономического развития страны. Политика, проводимая в годы первой пятилетки, привела к острейшему кризису. Развал экономики, голод, террор, затронувший значительную часть населения страны, ставили под вопрос само существование режима, лишали его экономической и социальной опоры. “Умеренный” курс был единственным способом стабилизировать ситуацию и предотвратить распад общества. Определенную роль играли также внешнеполитические расчеты советского правительства. Усиление угрозы германского фашизма заставляло Сталина маневрировать в отношениях с западноевропейскими странами, поддерживать идею “народных фронтов”, а, значит, с особой силой демонстрировать международной общественности принципиальную разницу между фашизмом и коммунизмом, выставлять напоказ “демократические завоевания” советской власти.
Переориентация экономической, социальной, карательной политики, существенное изменение идеологических стандартов отражали преобладающие в стране настроения и интересы. При помощи очередного маневра режиму удалось использовать потенциал этого почти всеобщего стремления к стабильности, “умеренности”, “зажиточной” жизни и т.п. На этом держались все относительные успехи второй пятилетки. Причем “умеренный” курс имел для системы столь существенное значение, что в определенной мере его проведение в жизнь продолжалось и после убийства Кирова.
Примечания.
1. Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. М., 1991. С. 260-261.
2. Девис Р.У., Хлевнюк О.В. Вторая пятилетка. С. 98-99.
3. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 922. Л. 58-58 об.
4. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 15а. Д. 1073. Л. 35.
5. XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии. С. 67.
6. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 936. Л. 5, 15.
7. XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии. С. 259.
8. Tucker R. Stalin in Power. P. 258-259; Лацис О.Р. Перелом. Опыт прочтения несекретных документов. М., 1990. С. 324-325.
9. XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии. С. 239.
10. Там же. С. 245.
11. Там же. С. 259.
12. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 939. Л. 2.
13. Там же. Д. 941. Л. 20.
14. Там же. Оп. 163. Д. 1016. Л. 143.
15. Там же. Оп. 3. Д. 944. Л. 17.
16. Там же. Л. 15,42.
17. Советское искусство. 1926. № 10. С. 22.
18. Комсомольская правда. 1934. 30 мая.
19. Социалистический вестник. 1934. № 19. С. 14.
20. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 171. Л. 50, 91.
21. Попов В.П. Государственный террор в советской России. С. 20-31.
22. Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938. Составители: Красильников С.А., Кузнецова В.Л., Осташко Т.Н., Павлова Т.Ф., Пащенко Л.С., Суханова Р.К. Новосибирск, 1994. С. 9, 31, 270.
23. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 948. Л. 95-100.
24. Известия. 1934. 11 июля.
25. Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 70.
26. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. З.Д. 941. Л. 14.
27. По новому Уставу ВКП(б), принятому на XVII съезде в начале 1934 г., Секретный отдел ЦК ВКП(б) был преобразован в Особый сектор ЦК (Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. (1898-1986). 9-е изд. М., 1985. Т. 6. С. 138). Суть этой реорганизации пока неясна. Но, скорее всего, Особый сектор сохранил функции реорганизованного в конце 1933 г. Секретного отдела, т.е. занимался только делопроизводством Политбюро и обслуживал лично Сталина. 10 марта 1934 г. Политбюро назначило заведующим Особым сектором А.Н.Поскребышева (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 941. Л. 14).
28. Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 141-142. Проект постановления о распределении обязанностей между секретарями ЦК был написан Сталиным (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1026. Л. 19).
29. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 948. Л. 31.
30. Росляков М. Убийство Кирова. Политические и уголовные преступления в 1930-х годах. Л., 1991. С. 28-29.
31. Кирилина А.А. Рикошет. С. 75.
32. См.: РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1039.
33. См. подробнее: Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. С. 16-18.
34. Зенькович Н.А. Тайны кремлевских смертей. М., 1995. С. 322-323.
35. Исторический архив. 1995. № 3. С. 141.
36. См.: РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 501.
37. Tucker R. Stalin in Power. P. 238-242; Conquest R. Stalin and the Kirov Murder.
38. Benvenuti F. Kirov in Soviet Politics, 1933-1934, SIPS № 8, CREES, University of Birmingham, 1977.
39. Getty J. A. Origins of the Great Purges. P. 92-136.
40. Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. С. 294-296; Антонов-Овсеенко А.В. Сталин и его время // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 93-94.
41. Самое подробное документированное опровержение версии об оппозиционности делегатов XVII съезда см. в кн.: Кирилина А.А. Рикошет. С. 76-80.
42. См.: Козлов А.И. Сталин: борьба за власть. С. 159-160; Ефимов Н.А. Сергей Миронович Киров // Вопросы истории. 1995. № 11-12. С. 51-53.
43. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 24-25; подробнее см.: Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. С. 19-20.
44. Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. С. 362-363.
45. Там же. С. 421.
46. Вопросы истории. 1990. № 3. С. 74-75.
47. Об этой книге как историческом источнике см.: Хлевнюк О. История “Тайной истории” // Свободная мысль. 1996. № 3.
48. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк, Иерусалим, Париж, 1983. С. 24-25.
49. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 999. Л. 63.
50. Там же. Л. 65. Решение об открытии универмага в Ленинграде было принято несколько месяцев спустя, 16 марта 1934 г., после нового обращения Микояна в Политбюро, в котором он докладывал о создании достаточного запаса товаров (Там же. Д. 1016. Л. 64).
51. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 15а. Д. 337. Л. 7.
52. Там же. Л. 8, 9. На тексте телеграммы сохранилась также резолюция Куйбышева: “Правильно”.
53. Там же. Л. 10.
54. Там же. Л. 4.
55. Там же. Л. 2.
56. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 484. Л. 42.
57. XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии. С. 26.
58. РЦХИДНИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 100. Л. 83-88.
59. Там же. Ф. 17. Оп. 2. Д. 530. Л. 78-98.
60. Социалистический вестник. 1936. № 23/24. С. 23.
61. РЦХИДНИ. Ф. 80. Оп. 18. Д. 171. Л. 5, 7.
62. Там же. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1012. Л. 1,4.
63. Там же. Д. 1015. Л. 70.
64. Там же. Д. 1033. Л. 20.
65. Там же. Л. 61-62.
66. Sharlet R. Stalinism and Soviet Legal Culture // Tucker R. (ed.) Stalinism. New York, 1974; Huskey E. Vyshinskii, Krylenko, and the Shaping of the Soviet Legal Order // Slavic Review. 1987. Vol. 46. № 3; Solomon P.H. Soviet Criminal Justice and the Great Terror // Slavic Review. 1987. Vol. 46. № 3.
67. РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 162. Д. 16. Л. 88-89.
68. Там же. On. 163. Д. 1043. Л. 35.
69. Там же. Л. 38-39.
70. Там же. Л. 37.
71. Там же. Л. 36.
72. Там же. Л. 34.
73. Там же. Д. 1045. Л. 136-137.
74. Викторов Б.А. Без грифа “секретно”. Записки военного прокурора. М 1990. С. 136-138.
75. Справка по делу Ревиса от 23 октября 1934 г.
76. Викторов Б.А. Без фифа “секретно”. С. 139.
77. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 17. Л. 42.
78. Там же. Л. 57.
79. Викторов Б.А. Без грифа “секретно”. С. 140.
80. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 22. Д. 81. Л. 428-429.
81. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1046. Л. 21-23.
82. Викторов Б.А. Без грифа “секретно”. С. 140.
83. Там же.
84. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1000. Л. 2-2об.
85. Там же. Д. 1020. Л. 56-63.
86. Там же. Д. 1044. Л. 80.
87. Там же. Оп. 162. Д. 17. Л. 31.
88. Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 65.
89. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 17. Л. 74.
90. Там же. Л. 80, 82, 86.
91. Далее использованы материалы статей: Девис Р.У., Хлевнюк О.В. Вторая пятилетка. С. 99-102; Khlevnyuk О., Davies R.W. The Role of Gosplan in Economic Decision Making in the 1930s. CREES Discussion Papers, SIPS № 36. CREES, University of Birmingham, 1993. P. 33-42.
92. Наиболее полно эта точка зрения представлена в книге: Getty J.A. Origins of the Great Purges. P. 12-25.
93. РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 2. Д. 750. Л. 52.
94. Там же. On. 3. Д. 913. Л. 9.
95. Там же. On. 2. Д. 750. Л. 54-56.
96. КПСС в резолюциях… Т. 6. С. 18.
97. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 92. Д. 14. Л. 62-65. (По плану первой пятилетки выплавка чугуна в последнем году пятилетки должна была составить 17 млн. т. Скорректированные годовые планы прироста промышленной продукции в первой пятилетке составляли: 1929 — 21,4%, 1930 — 32,0%, 1931 — 45%, 1932 — 36,0%.)
98. Там же. Д. 13. Л. 98-103.
99. Там же. Д. 18. Л. 1-2.
100. Там же. Д. 17. Л. 366.
101. Там же. Д. 16. Л. 149-150. Д. 17. Л. 213-214.
102. Там же. Д. 17. Л. 367, 434-442.
103. Там же. Д. 18. Л. 76-78.
104. РЦХИДНИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 798. Л. 5.
105. Там же. Ф. 17. Оп. 3. Д. 933. Л.5.
106. Там же. Ф. 558. Оп. 1. Д. 3109; Ф. 79. Оп. 1. Д. 563. Л. 1-23.
107. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 22. Д. 24. Л. 114-114 об.
108. Там же. Д. 27. Л. 230-234.
109. XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии. С. 435. ПО. Там же. С. 523.
111. Там же.