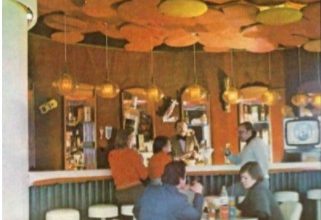глава из книги «Я — «ястреб»
глава из книги «Я — «ястреб»
Вскоре я познакомился и с производством, так как каждый теоретик обязательно присутствовал на сборке своих „изделий“ при подготовке их к натурным испытаниям. Это был период воздушных ядерных взрывов.
Каждый из нас сопровождал своё изделие и на ядерном полигоне. Так и я оказался в 1959 году впервые на ядерном полигоне, что в 130 километрах от Семипалатинска в Казахстане. Казахстанская степь, горы Дагилен, долина Узун-Булак с тихой речушкой да высоким камышом по берегам — всё это производит незабываемое впечатление величием и красотой природы. И сегодня мне иногда снится запах цветущей полыни казахстанской бескрайней степи. Да, многие из нас полюбили этот край. Ведь здесь прошла наша суровая юность.
Воздушный ядерный взрыв!
Впервые увидел его, стоя в десяти километрах от взрыва в степи. Был ясный, солнечный день. Яркая бело-розовая вспышка, от которой стал удаляться нежно-голубой ореол с ярко выраженным свечением фронта ударной волны в воздухе, — это правильной формы сплошной круг с ясно выделенной на границе окружностью. Когда фронт ореола дошёл до поверхности земли, вверх стали подниматься столбы пыли. Но они не достигли огненного шара, так как испытание было проведено на достаточно большой высоте, что обеспечивало уменьшение выпадения радиоактивных осадков на месте проведения ядерного взрыва после оседания пыли. Огненное облако взрыва поднималось вверх, унося смертельную опасность на большие высоты от земли с последующим глобальным выпадением на обширной территории. Потом в лицо ударило тепло: когда фронт волны дошёл до нас, будто мгновенно открылась дверка печурки, где пылало жаркое пламя от поленьев. А взрыв-топо мощности был небольшой! Так произошло моё „крещение“ на ядерном полигоне.
Немного было свидетелей этого впечатляющего зрелища воздушного ядерного взрыва. Но лучше бы над нашими просторами не было этих взрывов вовсе! Московский договор 1963 года остановил ядерные взрывы в космосе, в воздухе и под водой. Глобальные радиоактивные выпадения на нашу землю стали медленно уменьшаться. И наша страна перешла к подземным ядерным испытаниям, о которых мы знали только из американских источников, сами же делали ещё робкие шаги в технике их проведения.
Особенно запомнилось подземное испытание в 1972 году на проверку функционирования наших зарядов после воздействия поражающих факторов „чужого“ ядерного взрыва в условиях имитации противоракетной обороны противника на больших высотах от земли. Стоя на командном пункте в трёх километрах от входа в штольню, где были установлены три ядерных боеприпаса, мы внимательно визуально наблюдали за горным массивом. После первого небольшого подземного толчка, который сопровождал ядерный взрыв „противника“, я мысленно отсчитал положенные секунды и замер. За эти секунды наши ядерные боеприпасы были подвергнуты облучению радиацией и механическим перегрузкам от первого ядерного взрыва. Пришёл второй удар — это означало, что все наши ядерные боеприпасы сработали по заданной программе. Я был весь мокрый от напряжения. Эти секунды мне показались вечностью. Поднял трубку красного телефонного аппарата и доложил об успешном окончании работы в Москву, про себя думая, что это последняя моя командировка на полигон, такое не под силу человеческим переживаниям. После телефонного разговора вышел из командного пункта, лёг на степную траву и долго глядел в даль голубого неба, солнце ещё только поднималось над горизонтом, и его лучи нежно ласкали степь, унося мои мысли в бездну вечности. Каждое испытание — это частица отданной жизни испытателей, это миг, где, как в фокусе, сконцентрирована ответственность за труд тысяч работников отрасли.
На это подземное испытание я был назначен Руководителем. Видимо, уникальность и технологическая сложность эксперимента требовали от руководства Минсредмаша и Министерства обороны так поступить.
Семипалатинский полигон позволял проводить подземные ядерные взрывы круглый год, хотя зимний период был самым трудным для испытаний.
Казахстанская степь зимой — не место для праздной прогулки. Порывистый, со свистом, ветер, снежная пурга и тридцатиградусный мороз мгновенно могут появиться и накрыть вас, как в царстве злого дьявола. Так и случилось с нами однажды, когда мы на „газике“ решили рано утром в воскресенье в марте месяце махнуть со штольни в горах Дагилен на берег Иртыша в город Курчатов, где была наша основная база, мы её так и называли — „берег“. На крутом берегу быстрого и сильного Иртыша, что несёт свои воды в великую сибирскую реку Обь, во второй половине сороковых годов, после Отечественной войны, был возведён этот город для работников ядерного полигона. Летом, утопая в зелени тополей, посаженных и любовно сохраняемых жителями города, он напоминал братство России и Казахстана. Детские сады и ясли, школы и дом офицеров, белоснежные строения — всё это делало этот уголок прекрасным оазисом в казахстанской степи.
Когда мы выехали в то злополучное утро из поселка Горный, или просто „Г“, расположенного у подножья гор Дагилен, ничто не предвещало беды. Надо было проехать в основном по грунтовой степной дороге около 150 километров и часа через два-три быть в уютной и тёплой гостинице, да ещё с душем и ванной. В поселке „Г“ ничего этого не было, да и холодная вода со ржавчиной там тоже была редкостью. Спали мы, как правило, в тёплой одежде, в таких условиях не до санитарии. И вот выдался день отдыха! И на всю жизнь он остался в памяти.
Проехав немногим более часа, мы буквально ворвались в снежную пургу. Через некоторое время оказались в сплошном, несущемся нам навстречу снегопаде. Мороз усиливался. Наш „газик“ уже еле полз и вскоре остановился, потеряв всякие ориентиры, врезавшись в твёрдый сугроб снега, утрамбованного сильным ветром. Было ещё сравнительно раннее утро. Мы попытались, а нас было трое с шофёром, освободить „газик“ от снега, работая быстро лопатами, но сильно вспотели и практически ничего не сделали. Мороз крепчал. Вернувшись в газик, включили отопление на малых оборотах двигателя. С собой у нас не было ни еды, ни воды.
Вскоре показался грузовик, который ехал навстречу, рыская по степи, ища дорогу. Это было около одиннадцати часов утра. Мы попросили старшего сопровождающего грузовика и шофёра сообщить, как только они доберутся до „Г“, что застряли и ждём помощи. Но они, доехав до промежуточного посёлка, что находился несколько в стороне от нашей дороги, этак километрах в десяти, так и не дозвонились до „берега“ и до поселка „Г“. Ох, уж эта полевая связь на полигонах! А мы-то думали, что ещё целый день впереди, и спокойно сидели в газике, ждали. Зловещая метель усиливалась, стало сразу быстро темнеть, да и мороз дошёл до тридцати пяти градусов, как уже потом узнали. Помощи нет. В двенадцать ночи кончился бензин, никто не рассчитывал на такую поездку. Мы вышли из кабины и слили воду из радиатора, чтобы сохранить двигатель машины.
Буйство ночи, ветра, снега и мороза усиливалось. Шофер предложил идти пешком. Я остановил его: пурга, видимости никакой, ночь — это верная смерть. Мы сели в газик, надеясь дотянуть до утра, стали рассказывать о себе. Холод внутри газика нарастал, а брезент, из которого сделан кузов машины, изнутри покрылся толстым слоем инея от нашего дыхания.
Несколько раз шофер твёрдо повторял: „Нас списали!“. Сам он с Алтая и знал цену жизни в такой ситуации. Жутко было от этих слов, тем более, что он рассказал о гибели брата, который замёрз в Алтайском крае всего в двух километрах от села в такую же пургу.
Как только солнце чуть-чуть озарило степь, пурга также мгновенно стихла, как и налетела. Я попытался закоченелыми руками открыть дверцу — оказалось, это непросто. Нас полностью занесло снегом. Может, именно это и спасло нас от полного замерзания. С трудом выбрался наружу, увидел восходящее солнце и абсолютно чистое небо. Неподалеку лисица с удивлением смотрела в мою сторону — ей непонятно было, откуда появился человек. Весь в инее, и вышел из горы снега! А вокруг — море снега, плотно уложенного страшным танцем мороза и ветра, да мы были тогда — между жизнью и смертью. Я увидел вдали высоковольтную линию электропередачи и уже чётко ориентировался на местности, решив вести нашу группу на электрическую подстанцию. Там тепло, есть дежурный электрик и телефон. Почти двухчасовой переход через заносы и сугробы — и мы были в тепле. Посмотрел в зеркало и не узнал себя: лицо было красно-чёрного цвета. Шофёр плакал от радости. Оказывается, эта пурга застала многих в пути и была одной из самых жестоких за последние десять лет. Я благодарил судьбу, Всевышнего и всё, что нас окружает.
В жизни на полигонах было несколько таких ситуаций. У каждого своя судьба. Иногда кажется, что сам врос в Природу, и только наши мысли остаются частицей в мире. Нет, это не естественный отбор в природе, это гармония мира. Природа-матушка была благосклонна ко мне. И эта любовь взаимна.
Постепенно началось моё вхождение в семью испытателей ядерного оружия. Это отличные парни. Их труд и быт вдали от родных и близких по нескольку месяцев в году проходят в суровых полевых условиях, зачастую сопряжённых с риском для жизни. Быть в мирное время в окопах. Не каждому дано это осилить. Высокая ответственность за каждую операцию при подготовке и проведении испытаний выработала мужество и товарищество у каждого из них. Плохие люди и специалисты здесь не задерживались — сама жизнь выталкивала их из коллективов испытателей. Как-то незаметно для себя я врос в их среду и на всю жизнь полюбил этих парней. Впоследствии, когда наступил период интенсивных подземных ядерных испытаний, пришлось вместе с ними делить всю ответственность и тяжесть длительного пребывания на полигонах. Период подготовки и проведения подземных испытаний значительно больше, чем воздушных. Это была школа воспитания настоящего специалиста, терпимости и мужества.
Работая в семидесятых годах над созданием диагностических методов и систем регистрации быстропротекающих процессов в Институте импульсной техники, мы создали целый комплекс технических средств и собрали прекрасный коллектив для полигонных работ.
Конечно, северная казахстанская степь — это не только лютые морозы и снежная пурга. Весна и осень в степи всегда впечатляют, манят своей неповторимой прелестью запаха полыни и перелёта стай птиц, которые останавливаются на редких для этих мест пресных озерах, чтобы набраться новых сил и двинуться далее на юг — в Африку, Индию, Австралию — на зимовку в тёплые страны или обратно в отчие места. Однажды глубокой осенью по дороге на Дагилен мы увидели пару прекрасных дроф. Они величаво бок о бок прогуливались недалеко от вьющейся по степи пыльной дороги. Когда едешь по такой дороге один-два часа, то пыль, как вода, стекает с окон газика, и даже во рту её ощущаешь. Так бывает летом и осенью, а весной — это непролазная грязь, когда застревает любая машина, затянутая в глиняную болтушку дороги. И только остановка даёт возможность вдохнуть свежий воздух и насладиться лёгким степным ветерком, который всегда гуляет в бескрайней степи. А дрофы, как сказал мне водитель газика, видимо, останутся здесь зимовать, хотя для них это верная гибель. Кто-то из них, он или она, наверное, не смог кочевать дальше, и они остались здесь, в северном Казахстане, когда вся кочующая стая покинула эти места, продолжая свой извечный путь, проложенный их далёкими предками. Птицы держались друг друга и, не обращая на нас никакого внимания, спокойно вышагивали на своих сильных и довольно длинных ногах. До слёз поразила эта картина верности влюблённой пары.
Каждое лето много приходилось колесить по пыльным степным дорогам, но всегда трудно было оторвать взгляд от сидящего на макушке телеграфного деревянного столба красивого и гордого степного орла или тушканчика, стоящего у дороги на задних лапках, опирающегося на солидный хвост и с любопытством смотрящего на вас своими большими карими глазами, в которых отражалась вся степь и великая сила жизни на нашей планете.
Сколько же пришлось проехать по этим иногда еле заметным среди скудной степной растительности дорогам! Но тем они и хороши, что вы едете по степной целине. Особенно красив путь с гор Дагилен на ровную, как стол, площадку Балапан, что находится на самой границе ядерного полигона, когда вы оказываетесь в море степного ковыля и перекати-поля. Здесь проводились подземные ядерные испытания в скважинах, пробуренных вертикально вниз на глубину нескольких сот метров. Ядерные испытания в скважинах требовали гораздо меньше затрат и времени, чем испытания в штольнях горы Дагилен, — в горизонтальных выработках в граните. Однако диагностическая информация при штольневых испытаниях гораздо полнее, да и специфические испытания на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва лучше всего проводить только в штольнях, где, в соответствии с целями испытания, можно установить крупногабаритную военную технику и имитировать условия ядерного взрыва и в космосе, и в приземном слое, и в заглублённом случае. Поэтому каждый раз приходилось решать проблему: или иметь оперативную информацию о работоспособности конструкции ядерного заряда, или очень тщательно диагностировать все этапы развития ядерного взрыва, да ещё в различных пространственных частях экспериментального ядерного устройства. Но об этом несколько позже.
А сейчас хочется продолжить рассказ о дорогах на ядерном полигоне: небольшой участок бетонной дороги — бетонки — от города Курчатова, а затем съезд на полевую дорогу до гор Дагилен или до площадки Балапан. Впервые, когда я ехал по ней, где-то в середине пути поразила ровная гладь бело-синих озёр, цвет которых отражал, как в зеркале, нежные краски чистого неба над ними. Мы приблизились к одному из них, и нашему взору открылось громадное солёное озеро. Воды не было видно. Всё было покрыто кристаллами соли, и ни одной птицы, ни одного живого существа рядом. Я неуверенно наступил на эту массу соли, и нога стала медленно уходить вниз, затягивая мой брезентовый сапог. Я быстро отпрянул назад, а вода проступила от моего следа, и соль стала медленно поглощать отпечаток сапога. Брезентовые сапоги, зелёные брюки и куртка — обычный костюм испытателя на ядерном полигоне — и контрастом при этом белые хлопчатобумажные перчатки и белая шапочка, как у врача.
Больше всего у этих солёных озёр поражали древние захоронения казахов. Они были полуразрушены, полузабыты, и от этого щемило душу. Ядерный полигон не имел охраняемого периметра, хотя его границы на карте были известны всем соседним колхозам. На степных просторах полигона мы часто видели большие табуны лошадей с чабаном на коне, так что к этим могильным сооружениям из глины, напоминающим небольшие квадратные домики без крыши, всегда можно было придти и поправить их. Но, видимо, такой обычай у местного населения — схоронили и забыли. Проезжая мимо мёртвых озёр с кладбищами, мы испытывали чувство горечи за тех, кто забыл своих предков. А может быть так и нужно: радоваться жизни, а смерть сама тебя найдёт.
Здесь степь жила своей жизнью и радовала сердце и душу своей неповторимой красотой. Однажды дорогу нам пересёк огромный табун сайгаков, этих диких коз степных просторов. Вожак табуна быстро перемахнул через дорогу, и вся стая коз, как морская волна, перекатилась за ним. Это было очень впечатляющее зрелище. А вожак, этот сильный и умный красавец, уверенно, на большой скорости увёл стадо к горизонту колыхающегося под ветром степного ковыля. Только их и видели. Вожак — это не только символ природы, но и продолжение здорового вида, это и жизнь стада в соответствии с законами природы, его совершенствование и развитие. Зря вот только люди иногда забывают об этом, думая, что массы решают всё. Нет, главное — их организация и вожак — сильный и умный.
При приближении к посёлку Горный нас ещё издалека встречал лозунг „Слава КПСС“, выложенный на склоне невысокой сопки большими буквами из покрашенных в белый цвет камней. Здесь находились домики горняков, гостиницы для испытателей и казармы для военных строителей. Конечно, быт был очень примитивный, но, когда шла подготовка к эксперименту, всё это казалось мелочью. Потом, в 1988 году, во время проведения в США совместного с американцами эксперимента по контролю энерговыделения подземного ядерного взрыва, когда мы были на экскурсии в Лос-Анджелесе и я увидел на горе надпись „Hollywood“, мне вспомнилась та — в поселке „Г“. Да, разные идеалы были у нас и у них, и трудно сказать, чьи лучше, — у каждого народа своя „дорога в рай“ длиною в человеческую жизнь. Да и есть ли этот рай?
Рабочий день у испытателей складывался так: обычно в шесть утра подъём, скромный завтрак в солдатской столовой, около часа езды на автобусах до штольни по горным перевалам, и где-то около восьми часов вечера возвращение в посёлок. Иногда некоторые группы испытателей ездили в посёлок и на обед. В штольне и на приустьевой площадке, где в передвижных трейлерах были установлены приборы, регистрирующие информацию о взрыве, каждая группа занималась своей работой. Здесь работу не ждали, а искали! Через день, как правило, проходили заседания оперативной группы, которая координировала всю работу по подготовке подземного ядерного взрыва. Более редко собиралась Государственная комиссия по подготовке и проведению эксперимента, где рассматривались не только технические аспекты и процедуры, но и условия по безопасности проведения опыта. На каждый опыт назначалась своя Государственная комиссия, куда входили также медики и представители Гидрометеоцентра из Москвы и спецы полигона, ну и, конечно, ядро комиссии составляли специалисты ядерных центров.
Обычно меня назначали заместителем председателя Государственной комиссии по комплексу физических измерений или по научным вопросам, когда испытывались разработанные при моём участии ядерные боеприпасы. В редких случаях, как правило, на очень рискованные испытания, такие, как с многосекундным интервалом подрыва нескольких устройств, я назначался Председателем Государственной комиссии. Ответственность никогда меня не тяготила, я ощущал в себе твёрдую основу понимания всех процессов подготовки и проведения эксперимента. Часто приходилось советоваться с простыми горняками и геологами по вопросам сохранения результатов регистрации данных после взрыва и возможного истечения радиоактивных газов через целиковую породу с тектоническими нарушениями или через высокочастотные кабели, по которым информация передаётся из штольни к регистраторам этой импульсной информации, или через забивочный комплекс, установка которого во многом зависит от фактического профиля и геологии проходки штольни. Одним словом, забот всегда хватало, и здесь был важен иногда хороший совет.
Конечно, все работы выполнялись в соответствии с проектом на данный объект, где проводилось испытание, за чем строго следила Государственная комиссия, однако реальная обстановка всегда вносила коррективы в проект. На Семипалатинском ядерном полигоне постоянно трудилась целая группа представителей проектантов из Москвы, с которыми приходилось решать и обязательно документировать отдельные изменения в проекте. В практике таких изменений в проектах бывало достаточно много, и каждый раз я наталкивался на амбиции проектантов или формальные ссылки на утверждённую методику расчёта, будь то или забивочный комплекс из бетона и гранитной щебёнки для предотвращения выхода радиоактивных продуктов ядерного взрыва вдоль выработки заложения ядерного устройства, или герметизация связки многих сотен кабелей, по которым поступают команды управления взрывом, а во время взрыва передаётся информация от датчиков, преобразующих проникающие излучения, движение сильной ударной волны, рентгеновское и световое излучение в электрический аналог. Много было трудных разговоров с представителями проектной организации. Зачастую к таким разговорам по состоянию горных или скважинных массивов привлекались геологи. И, конечно, каждое изменение в проекте ещё больше усиливало чувство ответственности за результаты эксперимента. Только после опыта приходило чувство удовлетворения от такой работы, и уже никакие злопыхатели не могли испортить его. Каждый эксперимент — это небольшая история титанического труда проектантов, горняков, монтажников и испытателей.
Подземный ядерный взрыв в скважине Балапанской степи всегда был событием, требующим тщательной подготовки. С одной стороны, подземный водоносный слой на глубине десяти-двадцати метров, который заполняет скважину полусолёной водой — рапой, с другой — толстый и рыхлый слой осадочных пород, что обычно называется дрясвой. Оба аспекта требовали герметизации всех устройств, опускаемых в скважину, включая диагностические элементы измерительных каналов, а также очень тщательного бетонирования именно той части грунта скважины, через которую возможны истечения на поверхность радиоактивных продуктов взрыва. Естественно, после ядерного взрыва образованная полость в районе установки взрывного устройства заполняется водой. Для контроля вымывания радиоактивности из неё на разных расстояниях вокруг места взрыва бурятся контрольные скважины, из которых в течение многих десятилетий необходимо будет брать пробы для оценки скорости миграции радиоактивности по водоразделу грунтовых вод.
Особенно впечатляет наблюдение момента ядерного взрыва. Командный пункт управления, или коротко КП, обычно находится на расстояниитрёх-пяти километров от оголовка скважины. За час перед взрывом военный вертолёт облетает место взрыва в радиусе нескольких километров и, убедившись, что все участники заключительных операций покинули район скважины и измерительные трейлеры и никого из посторонних нет, даёт разрешение на включение автомата управления подрывом ядерного устройства и системой регистрации параметров взрыва. Затем по громкоговорящей связи передаётся: „Осталось десять секунд, девять, восемь, семь, … ноль“. А в степи на таком расстоянии отчётливо виден подъём грунта, как будто прорвался нарыв на теле земли, через секунду вы ощущаете мягкие колебания земли под ногами, и всё тихо вокруг, все смотрящие замирают, каждый думая о своём, и только спустя десяток секунд до вас доносится глухой стон земли.
Так было и в 1988 году на совместном с США эксперименте по отработке методов контроля мощности подземного ядерного взрыва, сигнал от которого прошёл через всю нашу планету как сигнал надежды на безъядерный мир. И это не был стон земли. Оболочка нашей планеты, как нежное и тёплое тело любящей своих детей матери, стала прозрачной для этого сигнала надежды, и все сейсмические станции мира приняли его. Сейсмический сигнал несколько раз обошёл землю как предвестник окончания холодной войны и начала новой эры на нашей планете. Этот эксперимент был назван „Чаган“ по имени небольшой речушки, впадающей в реку Иртыш в степях Балапана. Здесь уместно напомнить, что в отличие от нас, которые просто называли скважины по номерам, американцы своим подземным ядерным испытаниям любят давать имена. Так, совместный эксперимент в том же 1988 году на Невадском испытательном полигоне в США американцы назвали „Джанкшен“ по названию индейского местечка, где была пробурена испытательная скважина. Поэтому наш подземный ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне, который в рамках совместного эксперимента был проведён на месяц позднее, мы тоже назвали собственным именем „Чаган“.
После взрыва, используя данные дозиметрических приборов, установленных по концентрическим окружностям от оголовка скважины до КП и дальше в зависимости от прогноза силы и направления ветра на время „Ч“ (час взрыва), передовой отряд дозиметристов направляется к оголовку взорванной скважины. Обследовав дорогу к месту взрыва, они дают разрешение на снятие информации в измерительных трейлерах, установленных где-то посередине между скважиной и КП. Испытатели, одетые в спецкостюмы и снабжённые индивидуальными дозиметрами, на автобусах направляются к измерительным трейлерам, где им отводится на все операции для снятия информации ограниченное время, обычно от тридцати до шестидесяти, но не более, минут, так как предсказать достоверно начало возможного выхода на поверхность инертных радиоактивных газов всегда чрезвычайно сложно.
На том памятном взрыве „Чаган“ мы подъехали вместе с американскими специалистами к эпицентру взрыва, подошли к оголовку взорванной скважины — радиационная обстановка позволяла это сделать, и нашему взору представилась вздыбленная земля и глубокие трещины на её теле. При виде всего этого казался слышным крик: „Не взрывай, не взрывай!“
Однако на память приходят и другие случаи, когда с КП приходилось стремительно уезжать, кто на чём мог, из-за быстрого истечения радиоактивных газов из трещин и разбитого оголовка скважины. Как правило, в таких случаях среди людей возникает паника, что превращает их в толпу, которая, забывая обо всём, ищет для себя „спасения“, делая при этом массу глупостей. Потом, разбирая такие ситуации, так и хочется сказать: и смех, и грех, одним словом, чёрт попутал.
После снятия информации, а это фотоплёнки, печатные данные на бумажной ленте и отдельные регистрирующие устройства — фотоприставки, испытатели и вся Государственная комиссия возвращались в город Курчатов для обработки и анализа результатов эксперимента. На скважине оставалась только дозорная группа военных дозиметристов, которая ещё несколько дней должна была контролировать её „дыхание“ и днём, и ночью.
Но был и такой случай, когда дозор ночью спал, и вышедшие в это время из скважины радиоактивные газы были обнаружены только днём. Это наделало большой переполох в соседнем с полигоном военном поселке Чаган, где был обнаружен радиационный след облака незначительной активности. Поселок Чаган расположен где-то посередине между городами Курчатов и Семипалатинск. Там базировались дальние бомбардировщики, которые при воздушных ядерных испытаниях проводили и экспериментальные бомбометания на территории полигона. Срочно закрыли школы, детские ясли и сады и начали дезактивацию помещений. На запрос радиационной службы поселка Чаган генерал с полигона ответил, что там всё в порядке и не надо поднимать панику. Ох, уж эти генералы! Много амбиций под генеральской шинелью, но зачастую мало знаний и опыта в этих вопросах. Этот случай стал достоянием общественности и явился толчком к созданию движения „Невада — Семипалатинск“ в Казахстане за запрещение ядерных испытаний.
Основателем движения „Невада — Семипалатинск“ был известный казахский поэт и писатель Олжас Сулейменов. Однажды популярный публицист Генрих Боровик устроил телемост Москва — Алма-Ата между испытателями ядерного оружия и представителями движения „Невада — Семипалатинск“. В потоке вопросов и ответов я отметил уважение русского человека к жителям, природе и земле Казахстана, на что услышал иронический смех поэта. Мне стало до боли обидно: не может поэт-просветитель, обличающий пороки и призывающий к добру, не любить русский народ!
В эти минуты я вспомнил великого казахского поэта-просветителя девятнадцатого столетия Ибрагима Кунанбаева (Абая), кочевавшего на территории Чингисских гор, где ныне Абаевский район Семипалатинской области, и его слова к настоящему поэту-патриоту:
- Взглянет он зорче степного орла,
- Струны раздумья в душе теребя…,
которые проникнуты великой любовью к будущему родной земли и народа. Да, сегодня есть о чём задуматься и народу, и поэтам Казахстана. Может быть, и здесь, в горах Дагилена, бывал великий Абай.
Вообще история этого движения очень назидательна. Это был 1989 год — год, когда усиливались антирусские настроения в республиках Союза. Жаль, что и Казахстан не стал исключением в этом процессе развала страны, которая никогда не была империей в полном смысле этого слова.
Антирусские настроения и тот случай с Олжасом, думаю, что канут в Лету, и, как сказал великий Абай: „Из времени выпадет миг“.
После очередного опыта я со всеми испытателями вернулся на „берег“ в гостиницу — прекрасный двухэтажный дом квартирного типа, окружённый тополями, на берегу Иртыша. Поднялся на второй этаж, вынул ключ от квартиры, где я поселился две недели тому назад, и увидел на двери кнопкой приколотую табличку с надписью „В.Н. Михайлов и И.И. Пахомов“. Когда я уезжал на площадку Балапан, то на двери двухкомнатной квартиры, где, как обычно, я жил один, никакой таблички не было. С досадой я открыл дверь: так хотелось побыть одному, принять тёплую ванну после долгой и пыльной дороги, а тут сосед. Ступил в квартиру, и навстречу мне вышел уже немолодой, с сединой в волосах, но стройный и приятный мужчина. Мы познакомились. Я сказал, что очень устал и хотел бы принять ванну, если она сейчас свободна. Иван Иванович, так звали моего соседа, ответил, что ванна свободна и в полном моём распоряжении. Около получаса я наслаждался в тёплой и чистой воде, забыв обо всём, потом быстро оделся и вышел, теперь уже страшно хотелось есть. Был уже вечер, а в этот день „Ч“ я только утром выпил стакан чая. Направился на кухню, чтобы что-то приготовить из оставленных мною здесь при отъезде на опыт консервов. Когда я вошёл в теперь уже нашу общую кухню, то был поражён прекрасно сервированным столом. Здесь были и свежие овощи, и фрукты, и казахстанский арбуз, и жареное мясо с картофелем… Одним словом, настоящий натюрморт. Рядом стоял Иван Иванович и улыбался. „Я знал, — сказал он, — что у Вас сегодня „работа“. Так обычно называли проведение подземного ядерного взрыва. „Вы вернётесь голодным, и я приготовил на двоих ужин“. Так я познакомился с контр-адмиралом в отставке Иваном Ивановичем Пахомовым.
За ужином и за разговором мы просидели до поздней ночи, и я много узнал о начальном периоде становления ядерного полигона на островах Новая Земля, где Иван Иванович был одним из первых командиров. Да, судьба меня свела здесь в казахстанской степи с прекрасным человеком, добрым душой, опытным командиром Военно-Морского Флота Союза. А моряки даже в отставке соблюдают прекрасные традиции моря, хранят любовь к Отчизне и отличаются глубокой душевностью.
Здесь же на Семипалатинском ядерном полигоне я близко познакомился с удивительным человеком — Николаем Ивановичем Логуновым. Это был настоящий красавец земли русской, прекрасный и лицом, и душой. Более четырнадцати лет мы делили с ним все тяготы и радости жизни на ядерных полигонах. Он был душой любого коллектива, одинаково просто находил контакт и с адмиралом, и с матросом, и с академиком, и с монтажником, и с горняком. В этих поездках на полигоны он цементировал коллектив в трудных ситуациях, а в свободное время мог организовать прекрасный отдых. И сегодня, часто обращаясь мысленно к нему, одного прошу: „Коля, дай сил и твёрдости“. Он всегда со мной в сердце моём. И когда я чувствую, что очень сильно „перекрыл кислород“ своим коллегам и подчинённым, то вспоминаю его слова: „Никитич, прошу тебя, расслабь „удавку“. В ответ я обычно спрашивал: „Это надо сделать?“ — „Да!“ — отвечал он. В Институте импульсной техники у меня не было более близкого друга. В этой плеяде талантливых испытателей были прекрасные люди, мои близкие коллеги: это и Борис Предеин, и Лёва Глазов, и Валера Ярославский, и Женя Ершов. Они не просто умерли от мирских забот где-то в сорок лет, а сгорели на этой бешеной работе, отдав свой ум, талант и здоровье Родине. Таков русский характер.
С такими испытателями можно жить и работать в самых экстремальных условиях, а это, конечно, зима в степях Казахстана. Семидесятые годы… Как всегда, шла интенсивная подготовка одного из опытов в горах Дагилен в долине Узун-Булак, что на другой стороне горного массива от посёлка Горный. Я тогда руководил экспедицией испытателей от Института импульсной техники. В этой экспедиции нас было человек сорок, и моим заместителем был тогда ещё двадцатишестилетний Коля Логунов. Как правило, от института мы выезжали на испытания, полностью обеспечив себя всем необходимым для совместной работы с научными подразделениями ядерных центров и военнослужащими полигона. Помимо прочего мы привозили и транспортные средства с водителями, которые постоянно перевозили нас и наше оборудование от посёлка „Г“ к устью штольни. Была у нас и небольшая группа местных водителей с полигона, в основном обслуживающих газики и постоянно проживающих на „берегу“.
Стоял декабрь, и в степях в том году был глубокий снег. Особенно заметало дороги в ложбинах, и часто приходилось ездить по сопкам предгорья Дагилен. На зимний период работ мы, как правило, привозили мощные машины „ЗИЛ“ и „Урал“ с утеплённым кузовом. Наши шофёры из института имели целую базу этих машин и небольшой ремонтный участок. Коллектив шоферов и ремонтников автомашин был слаженный и дружный. Частые поездки на военные полигоны, отправка и сопровождение трейлеров с диагностической аппаратурой заказчику приучили их к походной жизни, и они быстро вписались в команду испытателей. В условиях бездорожья на ядерных полигонах от их умения и отзывчивости во многом зависела слаженность работы испытателей, за что мы их любили и уважали. К каждой поездке на ядерный полигон они тщательно готовились заранее, причём подготавливали не только технику, но и приличные запасы продуктов питания. Приспособили они и отопители кузовов автомашин к возможности кипятить чай, варить картошку, так что этим парням можно было автономно прожить в машине целую неделю. Хозяйственные ребята.
Итак, шла активная подготовка к декабрьскому испытанию в долине Узун-Булак. Рано утром мы выезжали к штольне и поздно вечером, часовв восемь-девять, когда уже было темно, возвращались в гостиницу посёлка „Г“. Так и в тот злополучный вечер воротились домой в девять часов. Однако одна машина „Урал“ не вернулась. Обычно мы возвращались все вместе небольшой колонной из трёх-четырёх машин, включая „газики“. Колонна, как правило, растягивалась в пути, приходилось буквально рыскать, прощупывая глубину снега на пути следования, и выбирать для движения небольшие возвышенности, где не собирается много снега.
Подождав около часа „Урал“, мы уже стали беспокоиться за тех двоих ребят, которые везли груз в машине. Где-то около одиннадцати вечера я вызвал Колю и попросил его немедленно выехать с ребятами на поиски пропавших, взяв запас тёплого белья и тёплой воды. Всю ночь я сидел у себя в номере и ждал их возвращения. Естественно, что никакой радиосвязи с машинами у нас в ту пору не было. Только под утро они приехали вместе с пропавшими. Счастливые и гордые они зашли ко мне в номер и рассказали, что нашли уже почти занесённую снегом машину в канаве, куда она угодила, возвращаясь в колонне домой. И на этот раз всё благополучно кончилось. А я понял, что Николаю Ивановичу можно доверять судьбы людей, он не подведёт и не бросит товарища в беде. Все его очень уважали, а он любую работу делал от души. Частые поездки на полигоны надолго отрывали нас от домашнего очага. Николай Иванович грустил по дому, да и сын его стал хуже учиться в школе. Бывало привезут ему письмо из дома, он уединится и долго, как бы наедине со своими близкими, читает их послание. Такова жизнь испытателей. Зато всегда возвращение домой было праздником для всех.
В ту снежную зиму мы решили ехать на своём автобусе в аэропорт города Семипалатинска, откуда — прямой рейс Аэрофлота до Домодедовского аэропорта Москвы. Обычно до Семипалатинска добирались поездом со станции Конечная, что была в городе Курчатове, хотя слово „станция“ к ней можно отнести чисто условно: вокзала здесь не было, как на обычной станции, а были военная комендатура в маленьком сарае и конец железной дороги, одним словом, станция Конечная. Рано утром ежедневно поезд отправлялся от этой станции в Семипалатинск. Вот мы и решили не проводить последнюю ночь в опостылевшей нам гостинице, а вечером выехать на автобусе в Семипалатинский аэропорт. Надо было проехать около ста пятидесяти километров — это по дороге часа три езды. Человек двадцать, мы загрузились в автобус и весело, с песнями выехали через контрольно-пропускной пункт полигона. Но не тут-то было. Спустя где-то около часа, наш автобус всё медленнее и медленнее стал пробираться через снеговые заносы на дороге. Попытались объезжать заносы по степи. Наступила ночь, и несколько раз мы проваливались в занесённые снегом ямы. Степь есть степь. Дружно выходили из автобуса и лопатами выгребали снег из-под его колес. Нет, так дальше дело не пойдёт, мы можем опоздать на самолёт. С грустью повернули назад и приехали в гостиницу уже далеко за полночь. Часа три поспали и утром обычным маршрутом, поездом, поехали в Семипалатинск. Зато сколько было разговоров о том, как мы ночью пробирались на автобусе через снежные завалы, да ещё с песнями. Вспомнили все песни времён гражданской войны, песни военных лет, послевоенные песни, ну и, конечно, песни нашей юности. Юность всегда прекрасна своей неповторимой любовью и радостью познания мира. Казалось, время тогда текло до обидного медленно, скорее хотелось стать взрослыми и самостоятельными. Зато теперь время летит стремительно быстро, да так, что незаметно мы стали дедами.
С горечью вспоминаю о ранней утрате Николая Ивановича, все мы называли его просто Коля, который в нашей памяти останется навсегда молодым. Пусть земля ему будет пухом! Но тогда, в ту заснеженную зиму, мы ещё не знали, что сравнительно скоро эта казахстанская степь разделит нас на живых и мертвых.
Вскоре в Москву вернулись из той экспедиции и наши шофёры, которые всегда, как правило, возвращались домой с эшелоном, с которым переправлялась наша диагностическая техника. И сколько ещё было разговоров о снежной зиме! Небольшая передышка дома для анализа данных и подготовки следующей экспедиции на ядерный полигон.
У читателя может сложиться впечатление, что у испытателей на Семипалатинском полигоне не было и минуты отдыха. Конечно, это не так. Мы были в основной массе молодые, задора и веселья у нас было, хоть отбавляй. Как говорят, на все руки мастера: и спеть, и потанцевать, и погулять, и на рыбалку махнуть с ночёвкой, конечно, всё было. Особенно памятна была рыбалка у искусственного водохранилища Балапан, образованного специальным ядерным взрывом. Американцы раньше нас провели такой ядерный взрыв, ну и, конечно, Союз должен был сделать подобное, как и всегда в таких случаях. Диаметр воронки был около пятисот метров, глубина — сто метров, а высота навала грунта бруствера около сорока метров. Это был первый наш ядерный взрыв в мирных целях для образования ёмкости запасов пресной воды. Взрыв был проведён в русле речушки Чаган, которая летом обычно пересыхает. Считали, что весною, когда идёт активное таяние снега, воронка заполнится водой, которой хватит на всё засушливое лето в этих местах для водопоя животных соседних совхозов. Так это и случилось: весною следующего года воронка заполнилась водой, а перед бруствером образовалось большое озеро глубиной один-два метра, залив около двух квадратных километров степной площади. Правда, эта заливная площадь летом высохла, а из искусственной воронки водопоя не получилось из-за сравнительно большой в ней радиации. Так и сегодня стоит это озеро, наводя ужас на жителей соседних деревень. А речка Чаган нашла себе новое русло и течёт весною, как сотни — тысячи лет тому назад, огибая творение рук человеческих.
Так вот, на следующий год после взрыва, весною, мы приехали порыбачить в заливных водах, да и посмотреть на наше чудо. А чудо-озеропроизвело жуткое впечатление, причём не радиацией, которая была ещё достаточно большой на бруствере озера, а чернотой водной глади и безжизненно угрюмым навалом грунта вокруг него — вывернутых наизнанку глыб внутренностей земли. Мы расположились у заливного озера, наловили бреднем линей, сварили уху и ещё долго смотрели на Атом-Кулем, то есть атомное озеро. Нет, не дело это: если и может быть мирное применение ядерных взрывов, то только не в обжитых местах. Правда, потом разные туристы часто приезжали в эти места, но я никогда больше не возвращался к этому озеру.
Суровый быт на площадке „Г“ всегда скрашивало пребывание в течение нескольких дней на берегу Иртыша в Курчатове. А если случалось проводить праздники в походных полевых условиях, то обязательно собирались все вместе и, несмотря на то, что мужчины обычно не очень словоохотливы, разговоры вели до раннего утра. О чём были эти разговоры? Да о жизни, о женщинах, иногда о предстоящих делах. В основном каждый стремился рассказать что-то примечательное из своей жизни. В эти минуты их души раскрывались, рассказчику хотелось, чтобы мы вместе с ним ещё раз пережили радостные и сладостные мгновения его жизни. Ну и, конечно, слушали музыку и песни, все хором подпевая. Особенно любимы в ту пору были песни Владимира Высоцкого — песни о любви, мужской дружбе и чести. Спортивные соревнования и шахматные турниры между отдельными группами испытателей и служащих полигона всегда привлекали горячих болельщиков. Часто возникали жаркие споры по политическим и экономическим вопросам международного и внутреннего характера. Но вот что интересно: никогда не было диспутов по ядерному оружию. Мы все делали одно дело, чётко сознавая его чрезвычайную важность для страны, и мужественно переносили все невзгоды и лишения вдали от родных и близких, как и наши отцы и матери во время второй мировой войны. Да, мы были в окопах в мирное время.
В каждом эксперименте применялось несколько методов измерения различных параметров кинетики ядерного взрыва, и для этого формировались группы во главе с руководителем по профилю методов измерения. Как правило, у каждой группы были и свой трейлер с регистрирующей аппаратурой, и свои датчики регистрации соответствующего излучения или фактора ядерного взрыва. В проектной документации для каждого метода были также строго определены высокочастотные кабели для прохождения электрического сигнала от датчика к аппаратуре регистрации и визуализации информации. Каждая группа отвечала за весь измерительный канал, включая датчик, высокочастотный кабель и регистратор.
Доклады руководителей групп по каждому методу измерений были обязательны на Государственной комиссии по проведению опыта и в процессе подготовки, и по результатам измерений. На основании этих докладов формировался общий отчёт по эксперименту. Естественно, между группами были элементы соревнования и соперничества, особенно за качество и достоверность полученных ими результатов. А в процессе подготовки эксперимента эти группы были основой всех спортивных и культурных мероприятий. Партийный и профсоюзный лидеры для каждой экспедиции назначались от предприятий, участвующих в данном эксперименте, куда входило несколько групп измерителей.Вот они-то и были застрельщиками всех массовых мероприятий. Надо сказать, что они никогда не стремились командовать и влезать в технические вопросы. Здесь всё определяли Государственная комиссия по проведению опыта и руководители отдельных групп. Все группы подчинялись руководителю экспедиции, назначенному предприятием, который был членом Государственной комиссии по проведению опыта.
К испытателям служащие полигона всегда относились с большим уважением, будь то в городе Курчатове или на площадке„Г“. Часто мы бывали у них в гостях у семейного очага, да и они проездом через Москву нет-нет, да и заглядывали к нам, поражаясь скромности быта испытателей. Военнослужащие и их семьи прекрасно понимали, что испытатели не подведут, а если придётся, то первыми вступят в борьбу со стихией последствий ядерного взрыва. И именно эти парни всегда показывали пример высокой квалификации и технологической дисциплины при подготовке и проведении опыта. Для них не было восьмичасового рабочего дня, у них была их профессиональная работа и днём, и ночью. И когда в минуты отдыха эти ребята приходили в Дом офицеров в кино, на концерт или танцы, на них с любовью из-под модных причёсок бросали нежные взгляды девчата. Конечно, дело не обходилось и без любовных романов — жизнь есть жизнь. Были и расставания со слезами на глазах. Но всегда была и надежда на встречу в будущем.
Так мы мужали на ядерных полигонах вместе со становлением нашей отрасли. Так создавали ядерный щит Родины во имя мира на нашей земле.
И как было обидно, когда в конце восьмидесятых — начале девяностых годов началась разнузданная кампания по развалу страны, и из уст новоявленных „спасителей отечества“ на разработчиков ядерного оружия обрушился поток грязи. Не любовь к народу и к своей земле, а желание занять ещё тёплые кресла в кабинетах и желание завладеть народной собственностью влекло их на трибуны. Сегодня всё это прекрасно видно. А тогда ответом на это был крик души в статье „Почему должны молчать ядерные полигоны страны?“ Это было моё первое выступление в газете(„Правда“, 24 октября 1990 года).
Последний раз я побывал на Семипалатинском полигоне в 1998 году, когда мы отмечали десятилетие Совместного эксперимента по контролю. Жалкий вид был у города Курчатов („берег“): выбитые рамы в жилых многоэтажных домах, заброшенные аллеи тополей и разбитые дороги. Да что Казахстан, когда и в России можно увидеть это. Особенно на моём родном Севере и в глубинке страны, этак километров за сто от Москвы. За что боролись и страдали?! Говорят, со временем будет лучше. Время всё лечит.
Как говорил великий русский поэт Н.А. Некрасов: „Жаль, только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе“…
На моё поколение выпали и Вторая мировая война (1941–45 гг.), и переход к новой жизни (1986–20… гг.). Сталь закаляется огнём и водой.