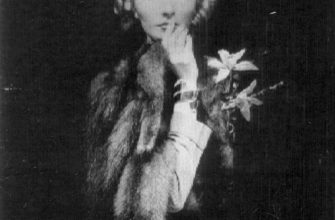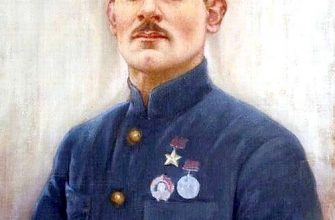istpravda.ru
Задним умом, говорят, все мы крепки. Действительно, с высоты уже совершившегося легко слыть великим стратегом и мудрым аналитиком. Гораздо сложнее – предвидеть ситуацию, просчитать возможные комбинации, выдать верный прогноз. Быть, что называется, пророком в родном Отечестве.
Можно по-разному относиться сегодня к фигуре бывшего первого секретаря Компартии Беларуси Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко. Монохромно – в духе похвальных статей из прежних красных энциклопедий: строил социализм в республике, создавал заводы и колхозы, партизанил.
Или полихромно: зная по тем же архивам, как прибывший в 1938 году в Минск с напутствием самого товарища Сталина наводить порядок взялся за выкорчевывание инакомыслия. И в первую очередь среди творческой интеллигенции – благодатной среде для поисков “врагов народа”. Притчей во языцех стал рассказанный современниками Пономаренко (в частности, Михасём Лыньковым после ХХП съезда КПСС в 1961 году) случай, как в 1938 году 36-летний Пантелеймон Кондратьевич поехал в Москву за визой самого товарища Сталина на аресты большой группы белорусских литераторов. А привез из первопрестольной не ордера, а ордена…
Впрочем, наша задача на данном этапе – на основе хранящихся в Национальном архиве документов рассказать, как Пантелеймон Кондратьевич оценивал в марте-июне 1940-1941 годов обороноспособность вверенной ему республики. В записках на имя Сталина.
Ничего не скажешь – человек он был дотошный. Прежде, чем писать 11 марта 1940 года на имя Генсека и бывшего тогда секретарем ЦК ВКП(б) Г.Маленкова докладную записку под названием “Об оборонительных мероприятиях в пограничной полосе Белорусского Особого военного округа”, оперативно и тщательно изучил доставшиеся в наследство от Польши нуждавшиеся в укреплении пограничные сооружения.
“…Приходится признать, что старые укрепрайоны представляли собой вовсе не районы, а линию не вполне законченных долговременных огневых точек, не связанных в систему обороны по глубине дополнительными более мелкими сооружениями и искусственными препятствиями.
Командующий, штаб и командиры мирились с этим, считая, что полное окончание ДОТов – снабжение их материальной частью – техникой, а также создание системы искусственных заграждений, дополняющих ДОТы и создающих непрерывность линии обороны и ее глубину, будет произведено в так называемый мобилизационный период и в период развертывания.
Некоторые благодушно настроенные командиры и военные инженеры эту мысль выражали так: “Как только министры начнут ссориться, так мы и начнем укреплять, а потом пока произойдет мобилизция и развертывание, мы всё и сделаем”.
Мысль, конечно, совершенно нелепая, исходящая из неправильных представлений о неизменности по времени мобилизационного периода для всех войн, и совершенно не учитывающая возможность более или менее внезапного нападения, или нападения, опережающего готовность оборонительной полосы.
В округе не существует генерального плана системы укрепления погранполосы как его, между прочим, не существовало никогда. И сейчас вопрос создания оборонительной системы понимается упрощенно, в виде той же нити капитальных укреплений по границе без какой-либо системы искусственных препятствий и вспомогательных сооружений по глубине и фронту.
Следует отметить, что никаких серьезных, длительных, инспекционных поездок, глубоких рекогносцировок пограничной полосы, серьезного изучения характера местности, рельефа, подходов и т.д. не производится, хотя вообще выездов коротких и бесполезных совершается множество.
Нужно сказать, что генеральный штаб и управления РККА почти не проявляли внимания к тому, что будет возведено, где будет возведено, насколько то или иное сооружение будет эффективным в той или иной местности. Правда, они всегда могли сказать, что просмотрели материалы, даже каждую точку рассматривали, утверждали, но всё это на карте, по бумаге. А не мешало бы товарищам из генштаба вспомнить, что, например, в подобных случаях начальник германского генерального штаба Шлиффен, разрабатывающий мероприятия против Франции, каждое лето с большой группой наиболее подготовленных офицеров генерального штаба на длительное время выезжал в местность, предполагавшуюся как плацдарм войны. Вместе с этой группой генштабистов он не только разыгрывал там, на местности, различные варианты наступления, но и тщательно изучал с ними местность и намечал систему организации обороны.
История сооружения линий Мажино, Маннергейма и др. говорит о том, что там при проектировании и строительстве длительное время работали виднейшие инженеры своей и даже других стран, наиболее подготовленные офицеры, при обязательном участии ответственных консультантов из генштабов.
А у нас виднейшие специалисты – военные инженеры занимают кафедры, читают лекции по фортификации, но никакого практического участия в разработке и строительстве сооружений не принимают. Из генштаба иногда, очень редко, приезжают работники не выше начальника отделения, бывают короткое время, поэтому положения изучить не могут и по ходу дела никаких коррективов не вносят”.
В отличие от осторожных визитеров-штабистов Пономаренко буквально искрит идеями-предложениями:
“1. Надо составить генеральный план системы оборонительных сооружений погранполосы, включающий не только линию капитальных долговременных огневых точек, но искусственные препятствия, более мелкие огневые точки, командные пункты, систему связи и сообщений, что в совокупности и создаст систему обороны в глубину и по фронту.
…Конечно, исходя из характера сложившихся взаимоотношений с соседом, учитывая наличие пакта о ненападении, эта работа не должна иметь элементов демонстративных и производить впечатление лихорадочной поспешности, тем не менее работа эта должна вестись непрерывно, систематически, с большим упорством и использованием всех местных ресурсов.
2. Пограничная полоса должна быть разбита на укрепленные районы уже сейчас. Должны быть назначены коменданты укрепленных районов с небольшим штатом, хотя там и нет сейчас никаких сооружений. Это будет небольшая группа, знающая местность вдоль и поперек. Комендант будет вмешиваться и добиваться устранения тех или иных недостатков, причем это будет делаться на основе точного знания местных условий.
3. Современные, особенно мощные ДОТы представляют сложный механизм. У них система артогня, электричество, аккумуляторы, вентиляция, радио, газотсос и т.д. – поэтому должно быть обращено особое внимание на подготовку гарнизонов этих ДОТов. …Все должно быть отлажено, отрегулировано, личный состав натренирован, иначе, к примеру, в процессе боя люди могут задохнуться от газов собственного же оружия в случае порчи газоотсоса. Технический состав ДОТов целесообразно было бы готовить в школах, так, например, в школах флота готовят младших командиров.
4. Наконец, необходимо решить вопрос о Барановичском укрепрайоне. Там есть из хорошей немецкой стали броневые купола-башни, узкоколейки и другое имущество, их необходимо снять, перевезти и использовать.
5. Вопросы, вытекающие из этой записки в объеме, возможном для выполнения силами округа, будут мною поставлены перед Военным Советом Округа”.
К сожалению, у нас нет данных, что ответили Сталин с Маленковым белорусскому визави. Но факт остается фактом. Линия укрепрайонов на старой советско-польской границе была законсервирована. Началось строительство на новой границе.
Косвенным доказательством чему служит второй сохранившийся в Национальном архиве республики документ – адресованная 9 июня 1941 года Иосифу Виссарионовичу докладная записка Пономаренко “О состоянии строительства укрепленных районов и необходимых мерах помощи”.
Приведем из написанного за 12 дней до войны документа наиболее заслуживающие, на наш взгляд, внимания цитаты.
“За апрель и май месяцы 1941 года забетонировано 217 оборонительных сооружений, что составляет 127,7% заданного Генштабом плана.
Всего по границе имеется 550 забетонированных сооружений. При исключении перебоев в снабжении все доты могут быть построены в гораздо более короткие, по сравнению с планом, сроки и при добавочном отпуске средств и материалов могли бы быть построены доты сверх плана, что помогло бы закрыть существующие разрывы.”
Однако Пономаренко беспокоят “главные недостатки” в начатом укреплении западной границы.
“Несмотря на то, что имеются 550 забетонированных сооружений и бетонировка новых продолжается, построено 909 сооружений полевого доусиления, свою задачу на сегодняшний день укрепрайоны – как укрепрайоны – выполнить не смогут, а могут лишь служить средством усиления войск прикрытия. Причина этому та, что из 550 забетонированных сооружений вооружены только 193. Военное ведомство не снабдило пулеметными, орудийными установками, амбразурными коробками и другими средствами вооружения и оборудования.
План снабжения, составленный Управлением оборонительного строительства Красной Армии, предопределяет растягивание сроков строительства. Пример такого планирования – амбразурные короба, при потребности дот-5 во втором квартале 107 штук планируется 50 штук, дот-4 – 429 штук, планируется 175 штук и т.д.”.

Один из советских дотов в Беларуси
Надо отдать должное партийному вожаку Беларуси, он называет вполне конкретные меры, которые, по его мнению, могут улучшить положение. И выдвигает на первый план в качестве работы “немедленной и самой срочной” следующие задачи:
“Привести снабжение оборудованием и вооружением ДОТов в соответствие с темпами строительства. Принять все меры для снабжения невооруженных дотов.
Пересоставить план снабжения стройматериалами с расчетом окончания бетона полностью к 15-му сентября, взяв эти материалы за счет любых потребителей, кроме, м.б., авиации.
…Увеличить средства и отпускаемые материалы для сооружения дотов сверх установленного плана для заполнения наиболее досадных разрывов в укреплениях.
Необходимо разрешить подорвать все доты Барановичского укрепленного района, направленного на восток и поэтому опасного…”.
В свете того, что произошло через 12 дней, трагическим сигналом “SOS” звучит последняя ремарка записки: “Казалось бы целесообразным, чтобы на основе обсуждения наших предложений Главным Военным Советом было принято правительственное решение по вопросам строительства укрепленных районов в ЗапОВО”.
Вот так оно и бывает в жизни: расклад стучащегося в Кремль под доносящиеся с Запада громовые немецкие раскаты челобитчика насчет возможного отсутствия мобилизационного периода при внезапном нападении врага, бумажной тактики советских штабистов, уязвимости неукрепленной западной погранполосы практически полностью оправдался.
Слегка ошибся партсекретарь лишь с датой: он хотел завершить главные укрепработы хотя бы к 15 сентября, а всё самое страшное началось 22 июня.