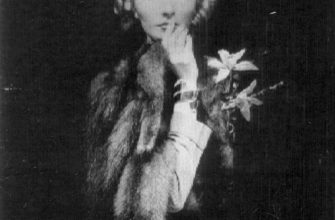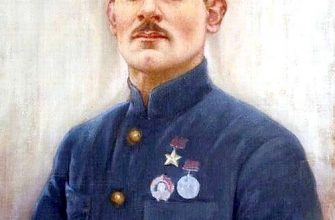Много лет назад Ольга Алексеевна Сафарова запретила себе даже вспоминать тот опыт боли, который она получила в блокаду.
Всю блокаду ее семья пережила на Васильевском острове. Она и сейчас здесь живет. Каждый дом, каждый перекресток отзывается в ней страшными детскими воспоминаниями…
Чуть больше, чем через месяц после объявления войны мне исполнилось семь лет. Я всю жизнь старалась избегать смотреть, читать все эти книги и фильмы о блокаде – в основном, лживые и пропагандистские, тем более – не хотела об этом говорить.
Война началась внезапно, мы с бабушкой Елизаветой Альфредовной были на даче где-то под Лугой, то есть довольно далеко, около 200 километров; и сразу же вернулись в город – к лучшему или нет? Через 19 дней война была уже у порога Ленинграда. Судьбоносная ситуация: остались бы на даче – попали с бабушкой в оккупацию, она природная немка, и мы обе с немецким языком. Но мы вернулись.
Стояло чудесное лето, на улице из раскрытых окон орало ура-патриотическое радио, я слышала вместе со всеми (люди на улице толпились под репродуктороми), как у Сталина клацали зубы о стакан с водой, когда он, вспомнив свою семинарию, начал речь: “Братья и сестры”… Радио слушали все время, поражаясь и ужасаясь молниеносному продвижению немцев. Все стали запасать продукты, сушить сухари и мой дед Тимофей Степанович два раза сжег в плите по паре противней сухарей. В это же время по радио наврали, что в городе, уже замкнутом блокадным кольцом, на пять лет запасы продуктов и ничего не надо запасать. Начались бомбежки, обстрелы и зажигательные бомбы, людей – женщин и подростков – начали гонять в пригороды на рытье окопов и некоторые там попадали в плен. Стекла в домах велено было заклеить крест-накрест газетными полосками – от вылетания при взрывах бомб и снарядов, а вечером, пока еще было электричество, нужно было затемнять, завешивать окна, чтобы ни один лучик не пробивался в щели. Иногда врывались в квартиру какие-то люди – патрули, – и орали, что мы немецкие шпионы и подаем своими светящимися щелями сигнал немецкой авиации, куда бомбить. Это было серьезное обвинение – царила истеричная шпиономания. Кажется, в октябре этнических немцев арестовывали и высылали в 24-е часа.
Никакие наклейки на окна не помогли и стекла вылетели, и мы, – мама, мамина сестра тетя Вера и я – сбились в одну комнату и окно заделали фанерой и от холода (уже наступала осень) заложили окно матрасом из конского волоса, в те времена такие клали сверху на пружинные матрасы. Бомбежки и обстрелы были каждый день, иногда несколько раз в день, первое время раза три-четыре мы бежали в бомбоубежище, то есть в подвалы домов. На улицах днем патрули в штатском с повязками красными загоняли людей в эти бомбоубежища и всех заставляли ходить с противогазами. Противогазы страшные, серо-зеленые с рифленым хоботом за спину в зеленую коробку. Репородукторы кричали на улицах железными истеричными голосами: “Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога!…”, завывание сирен и стук метронома в репродукторе, крестики самолетов в небе волна за волной с ревом пикируют, тукание зениток, бесполезные аэростаты в небе, нарастающий визг летящих бомб, в конце визгов грохоты взрывов. Пустой город с заклеенными, заложенными окнами, кирпичная пыль, дома рушатся горой обломков на треть своей высоты и, почему-то, все усеяно листами бумаги (из книг? тетрадей? писем?). Полкомнаты висит в проломе в третьем этаже, трюмо, кровать, зеркальный шкаф – остов уюта над провалом лестничной клетки. Яма от фугаса посредине 14-й линии, плакаты на обломках стен: «Враг подслушивает»… Солнце, голубое небо, запах гари, известковой и кирпичной пыли, из репродукторов: “Граждане, норма хлеба по карточкам снижается до…, на рабочую карточку…, на служащих…, на детскую и иждивенческую карточку – до 125 граммов в день…”
А ночные обстрелы и бомбежки – я заклинала их самодельными заклятиями, мне казалось, если думать о них, переставив слова “Бомбежка уже был днем и обстрел уже была сегодня” – то ночью ничего не будет. Иногда это совпадало.
Осенью голод стал сильнее страха, и мы перестали бегать в бомбоубежище, да и стало известно, что их заваливало рухнувшими домами, люди заживо погребались. Вместо бомбоубежища несколько раз спускались в подъезд под лестницу, считалось, что там безопаснее, и однажды в бомбежку, сбившись в кучу под лестницей с другими жильцами дома, мы с мамой и тетей Верой были оглушены и ослеплены взрывом бомбы в нашем дворе. Грохот, огонь, пыль, крики, вопли; какая-то женщина от страха обхватила Веру сзади и забилась в истерике, руки свело, и Вера не могла высвободиться, несколько человек с трудом разжали это насильственное объятие и несколько оплеух заставили женщину прекратить вой; мама закрывала мне голову руками, зажимала мне глаза и уши. Дверь во двор взрывом заклинило, ее потом всей толпой вышибали.
Наша маленькая семья – мама, тетя, дед Тимофей и я – мы все получали иждивенческие карточки, я – детскую. Учреждения, где работали мама и тетя, эвакуировались в начале войны, а их, копировщиц-чертежниц, не взяли, а просто уволили.
Пока не кончились дрова, мы все ютились в кухне у плиты, дед в темной комнате в торце кухни. Продуктовых запасов у нас не было, до сих пор помню вкус последней сосиски и макарон, скормленных мне тетей и мамой, сами они не ели. Туда же в кухню пришел пешком через весь город исхудавший дядя Коля – солдат ленинградского фронта, в обмотках – он принес мне куриное яйцо, а сам через месяц умер от голода в госпитале и был сожжен вместе с множеством других в печах бывшего кирпичного завода, переделанного под крематорий на территории нынешнего Московского парка Победы – он весь на пепле и обгоревших костях
Настали морозы, дрова закончились, за дедов костюм и золотые часы в маминой меньшей комнате печник поставил печку, трубу вывел в окно, пропилив дырку в фанере, топить ее стали книгами и мебелью красного дерева, которую рубили топором. Днем стояли в очередях в ожидании открытия булочной на углу 18-й линии и в пунктах по раздаче по талонам гороховой баланды – мутно-желтой жижи, где на 1 литр плавало штук 20 горошин, и хвойной воды, которую выдавали против цинги.
Ходили на Неву за водой с бидонами на детских саночках, меняли вещи на кусок хлеба.
Невозможно стало отличать мужчин от женщин: все ходили, запахнув пальто вдвойне на исхудавших телах и подпоясавшись шарфами или веревками, в платках и шалях поверх шапок крест-накрест на груди, завязав за спиной. За поясом ложки, чтобы, получив баланду, тут же ее съесть, что многие и делали, не донеся 125 грамм хлеба и котелок баланды до голодных, оставшихся дома.
По городу ходили слухи, правда или нет – как разобрать? Говорили, что никаких запасов продуктов на Бадаевских складах не было, такое количество (на пять лет на миллионный город!) не могло там поместиться, поэтому во время очередной бомбежки зажигалками власти подожгли Бадаевские склады и врали, что, мол, было, да сгорело; единственное, что там точно было – это сахар, он плавился в огне, тек и смешивался с землей, и люди потом ведрами выносили и ели эту сладкую землю.
Говорили, что городское правительство с высшими военными и несколькими прихлебателями из писателей и актеров обосновались в гостинице «Астория», им самолетом привозят коньяк, шоколад и пр.; почтальоны давно не разносят письма, выбрасывают почту за ближайшим от почты разбитым домом; из детского дома на 16-й линии подводами вывозят синие голые трупы детей – дистрофиков, некоторые вроде еще живы, руки шевелятся; ночами на улицах в окрестностях Кировского (Путиловского) завода бегают группы немецких солдат; в бомбежку взрывом накрыло человека с огромным полосатым наматрасником на спине, куда он складывал ценные вещи из разбомбленных и вымерших квартир.
До зимы съели всех крыс, кошек и собак. Те, кто был занят на рытье окопов, даже по первому снегу, собирали хряпу – листья капусты, оставшиеся на полях на земле. Голодные в очередях говорили: “хоть бы немцы скорее заняли город – накормили бы…” – тут же к ним могли подойти и расстрелять на месте, или арестовать; вообще, аресты продолжались и в блокаду. У ослабевших и севших или упавших людей отнимали пайку хлеба и карточки – это я сама видела.
Из разговоров взрослых: живут только те, кто имеет хоть какое-то отношение к продуктам – булочным, столовым, военным распределителям, аптекам (в аптеках много съедобного – гематоген, витамины, глюкоза и т.д.). Они меняют продукты на ценности и антикварные вещи (так возникли некоторые антикварные коллекции послевоенного времени).
Удачей было выменять хлеб или крупу, ее мололи в кофейной мельнице и варили жидкую баланду; тетя и мама, до войны любительницы кофе, имели пару пакетов кофейных зерен – их жарили и жевали по нескольку зерен – это давало силы к очередному выходу на улицу в поисках поменять вещи на еду.
Иногда удавалось выменять жмых – это колючие комки подсолнечных выжатых на масло семян или дуранду – то же самое из льняных семян. Молотую любую (чаще перловую, так называемую “шрапнель”) крупу добавляли в кофейную гущу и пекли лепешки на любом масле, хоть на касторке. Из пластинок столярного клея варили “студень” и ели. Пайка хлеба в 125 граммов содержала опилки и комки бумаги, мы свои 4 пайки (деда, тети, мамы и моей) брали одним куском, чтобы не потерять на крошках. Два раза тетю и маму обманывали: они принесли газетный кулечек граммов 200 сахарного песка, который оказался только сверху слоем с палец толщиной – остальное была соль; второй раз – выменяли банку шпротов, принесли, вскрыли – там были тряпки в масляной краске – пустую банку набили и запаяли и поменяли на брошь “добрые люди”. Спать мы ложились в одежде и шапках, накрывались одеялами и вещами с головой. Когда просыпались, поверх всего лежал иней, руки, сведенные холодом, отогревали над “коптилкой” – это склянка с керосином, на горловине жестяной кружок, в центре жестяная трубочка, сквозь нее жгутик из ниток, конец в керосине, верхний конец фитилек с огоньком, экономили керосин, сидя часами в темноте.
Помогала выживать вера. Читали Библию до последней страницы и тут же начинали с первой, пока были силы. Никто, ни разу, никакие представители властей (вопреки последующему после войны вранью) к нам не приходили; первыми тихо умерли муж с женой в задней комнате, подселенные когда-то жильцы, они так и остались лежать в промерзшей своей комнате.
Потом тихо умер от голода дед Тимофей, его зашили в байковое одеяло и на санках отвезли на Смоленское кладбище в штабеля трупов, которые потом захоранивали в братские могилы. Это было жуткое путешествие с 20-й линии, д.13 до Смоленского кладбища, слабые и голодные женщины, скелеты.
Уже не было сил ходить на Неву за водой, просто набирали снег во дворе или с подоконника разбитого окна на лестнице и растапливали его на буржуйке. Давно отключили воду, в уборную сходить было невозможно, пользовались горшком, содержимое выливали из окон – не было сил это выносить, стула просто не было. У некоторых, правда, было и то и другое, поэтому многоэтажные дома были увешаны желтыми подтеками мочи с вкраплениями кала. Весной 42-го все это начало таять и сползать вниз, где на тротуарах тающий снег в сугробах начал обнажать трупы упавших и занесенных людей с ноября месяца.
После смерти деда Тимофея настал день, когда уже нечего было менять на продукты, и мама отказалась встать утром с кровати – разыгралась ужасная сцена: тетя Вера была сильнее физически, она стала лупить маму кулаками, куда попало, крича: “У тебя ребенок, ты обязана встать и идти искать еду”. Она пинками заставила ее встать, вскипятили и выпили кипятку, съели по 3 кофейных зерна и Вера предложила пойти к жене уже умершего дяди Коли – Эрике, у которой должно было остаться кое-что от отца – нэпмана, погибшего в 30-е годы в застенках НКВД. Они пошли пешком куда-то на улицу Маклина, у порта. Их не было очень долго, я в темноте с фанерными окнами, отупевшая от голода, потеряла счет времени, думала, что они не вернутся. Оказалось, им пришлось пережить бомбежку где-то в разрушенном доме. Они пришли и принесли несколько золотых царских монет, громадный длинный палантин из голубых полярных лис и роскошное огромное пушистое покрывало из ангорской шерсти, по дороге они уже что-то выменяли на еду и выложили на стол несколько кулечков в пергаментной бумаге, развернули, и от запаха еды я потеряла сознание.
У тети и мамы хватило мужества не съесть все разом, растянуть как можно дольше, и потом все принесенное выменяли на еду.
Из их разговора я поняла, что Эрика в квартиру их пустила непонятно почему, от неожиданности, наверное, но давать ничего не хотела. Они стали на нее кричать. Злость придала Вере силы, она держала ее, а мама сняла это покрывало, выдернула из шкафа лисий палантин, тут Эрика сдалась, сняла стекло с керосиновой лампы, развинтила ее, в керосине в резервуаре лежали золотые монеты, и отдала несколько штук. Шли они обратно, пряча все это под одеждой, подвязанной веревками. Не вспомни про эту Эрику и не пойди они наугад, надеясь что-то добыть – через пару дней и Вера не встала бы с постели, и мы голодные окоченели бы в комнате навек.
Эрикины вещи Шура с Верой ходили менять на еду к некоему Л. (работнику продсклада). Первый раз от этого Л. мама с Верой вернулись и с удивлением рассказывали, что коридор у него в несколько слоев устлан коврами, ковры рулонами сложены вдоль стен, стены до потолка увешены сплошь картинами в золоченых рамах, в углах прихожей навалены серебряные канделябры и подсвечники. Некоторые были расплющены в грубые серебряные шары (видимо, кувалдой для экономии места), правда, дальше прихожей и коридора он их не пустил. Этот Л. встречался им на улице (мы тогда жили на 16-й, дом 1) и в 50-е-60-егг. – здоровехонек – морду отворачивал, как бы не узнавал. «Кому война, а кому мать родна!» – поговорка тех лет.
Наверное, к этому времени я совсем отупела от голода, в памяти все сливается, не выделяя дней и ночей. Помню, как с любимым мишкой тыкалась в край кровати, на которой, как спеленутая мумия, зашитый в серое байковое одеяло, лежал мертвый дед (мама с тетей ушли в поисках чего-либо съестного). Вот я снова спиной у остывающей печки, окна забиты фанерой, свет пробивался в уцелевшее стекло форточки.… Из слившихся воедино дней и ночей выплывает проблеск воспоминания: мы с мамой бредем вверх по обледенелой лестнице (люди плескали водой, неся воду из Невы в ведрах); мама в своей крептовой шубе, запахнутой вдвое на худом как скелет теле, повязанная платком на берет и крест-накрест за спиной; подскальзывается на обледенелых ступенях и падает затылком о ступени, скользит навзничь вниз и застывает неподвижно; я, ребенок 7-ми лет, плача ледяными слезами (слезы замерзают на щеках) поднимаю ей голову и уговариваю очнуться и встать. Похоже, это мне удается, раз говорю сейчас об этом. Бедная, бедная мама, слабая и кроткая, нашла в себе силу духа не умереть на этой лестнице, оставив замерзающего ребенка рядом…
К весне 42-го года по льду Ладоги стали доставать грузовиками муку и власти увеличили норму хлеба иждивенцам и детям до 250 граммов, хотя он продолжал быть с опилками и комками бумаги.
Еще помню вкус древесных почек и сладкий вкус желтых цветов акации. Тогда, вдоль всего Большого проспекта росла изгородь из этих кустов и оголодавшие дети ели эти цветки и почки, напоминавшие по вкусу огурец. Из весенней лебеды варили щи.
Сейчас, когда говорят о блокаде – говорят о подвиге, забывая, что в первую очередь блокада – это ужасное несчастье большинства жителей города. Это одно из преступлений власти, уничтожившей своих кадровых военных, ввергнувшей страну в голод 20-30-х годов, пославшей на Ленинградский фронт мобилизованных необученных парней в обмотках и с двумя винтовками на десять человек, оставившей город без запаса продовольствия!