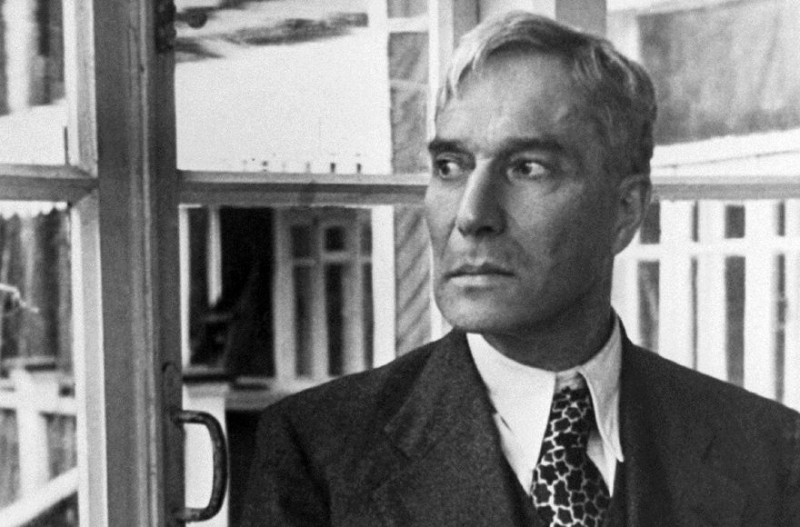
В прежние времена столичные снобы-эстеты любили порой подчеркнуть: масштаб личности и силу творчества Бориса Пастернака в полной мере может оценить только москвич. Несмотря на спорность и нескромность подобного утверждения, какая-то доля истины в нем есть. Действительно, малая родина (если это понятие вообще применимо к Первопрестольной) во многом формирует у человека и менталитет, и вкус, и стиль, и манеры. Примерно то же самое могут сказать в отношении выдающихся литераторов-земляков питерцы, нижегородцы, красноярцы, владимирцы — жители практически всех регионов России.
Наверное, любой патриот с готовностью повторит за Пушкиным «Москва… как много в этом звуке…», но далеко не всякому, даже самому тонкому, ценителю литературы близки и дороги многие из тех вещей, что составляли в разные эпохи специфику быта великого города. И в этом смысле Пастернак — не столько общенациональный, сколько московский поэт-писатель, а точнее, самый что ни на есть московский. Неудивительно, что связанных с его жизнью и творчеством адресов в Златоглавой множество.
ЗАКАТНОЕ СОЛНЦЕ НАД КРЫШЕЙ
«Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке, — писал он в автобиографическом очерке «Люди и положения». — Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашеные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах. Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать».
Много лет спустя Борис Леонидович поселил в места своего детства семью одной из героинь романа «Доктор Живаго», сестры милосердия Ларисы. Она с домочадцами обитала в меблированных комнатах «Черногория»: «Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».
С Оружейного Пастернаки переехали на казенную квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества, которая располагалась во флигеле внутри двора. В том учебном заведении преподавал отец Бориса, известный живописец. «С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалам, — вспоминал поэт. — С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.
…Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги».
Когда флигель снесли, Пастернаки перебрались в левое крыло главного здания, на четвертом этаже. Борис Леонидович помнил закатное солнце над крышей почтамта, из-за которого выглядывала Меншикова башня — Церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах.
ТРАГИЧЕСКАЯ ФИГУРА
В 1911-м семья переехала на Волхонку, в дом №14. Там Борис Пастернак — с перерывами, иногда он снимал себе отдельное жилье — пребывал до 1937 года. Дважды разворачивались поодаль памятные события…
В декабре 1931-го сносили Храм Христа Спасителя. После первого взрыва великолепное творение Константина Тона устояло. Но вандалы не успокоились и во второй раз взрывчатки заложили столько, что вылетели стекла во всем прилегающем квартале. Погубивший храм взрыв покрыл местность на несколько километров окрест высоким серым облаком…
Спустя год, в ноябре 1932-го, мимо дома Пастернака двигался длинный траурный кортеж. Сын поэта Евгений много позже рассказывал: «Похоронная процессия Надежды Сергеевны Аллилуевой проходила под окнами нашей квартиры на Волхонке. Иосиф Сталин шел в шинели за гробом от Кремля до Новодевичьего кладбища. Пастернак видел это из окна». Евгений Борисович полагал, что в тот момент его отец в первый раз «увидел Сталина как трагическую фигуру».
В «Литературной газете» было опубликовано стандартное соболезнование советских писателей «отцу народов». При этом дополнение Пастернака удивляло неподдельной эмпатией: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел».
Обратил ли вождь внимание на печальную проникновенность поэта? По легенде, был глубоко тронут.
КОРОБКА С КРАСНЫМ ПОМЕРАНЦЕМ
Дважды кумир московской интеллигенции снимал комнату в доходном доме в Лебяжьем переулке — осенью 1913-го и весной 1917-го. Ее окно выходило на Кремль и Софийскую набережную, поверх деревьев Александровского сада, который был гораздо шире нынешнего. То скромное жилье знаменитый литератор несколькими фразами-штрихами описал в стихотворении «Из суеверья»: «Коробка с красным померанцем — / Моя каморка. / О, не об номера ж мараться / По гроб, до морга! / Я поселился здесь вторично / Из суеверья. / Обоев цвет, как дуб, коричнев / И — пенье двери».
Еще один московский адрес: дом в Сивцевом Вражке. Хозяина квартиры, который сдавал ему угол, Пастернак охарактеризовал так: «Бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушия, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии».
Тревожной осенью 1917-го никто не ведал, что висевшее в холодном воздухе томительное напряжение разрядится не только винтовочной и пулеметной стрельбой, но и пушечными залпами. «27 октября 1917 года в Москве было установлено военное положение, и в воскресенье 29-го числа началась орудийная пальба, — писал сын Евгений в биографической книге об отце. — На улицах стали строить баррикады и рыть окопы. Такой окоп был вырыт и в Сивцевом Вражке, недалеко от дома №12, где снимал комнату Борис Пастернак. Его брат Александр в своих воспоминаниях описал увиденные из окон дома на Волхонке отряды юнкеров, которые избрали себе укрытием и засадой парапеты сквера и выступы домов Замоскворечья. Борис успел прийти на Волхонку в момент некоторого затишья и не мог вернуться, застряв на три дня. Сестры Лида и Жоня, бывшие в гостях на Пречистенке, отсиживались там. Дом на Волхонке на протяжении этих дней простреливался с двух сторон, так как через некоторое время добавилась юнкерская артиллерия, бившая шрапнелью с Арбата».
В начале 30-х Борис Леонидович жил в небольшой двухкомнатной квартире жилого здания на Тверском бульваре. Это так называемый «дом Герцена», где Федерация литераторов обреталась до создания Союза писателей. Проживавший там много лет Андрей Платонов в рассказе «Тверской бульвар» писал, что «по дворику бегали гении литературы, одержимые достоинством».
Последнее обиталище Пастернака в Москве — квартира в доме №17 в Лаврушинском переулке. Большую часть жизни он провел на даче в Переделкине. Сегодня этот, в прошлом подмосковный, уголок стал частью столицы. На местном кладбище великий поэт обрел свой последний приют.
Заслуживают упоминания и два дома на Поварской. Там находилась гимназия, в которой будущий нобелиат учился. В особняке Цетлиных, где нынче располагается посольство Кипра, он познакомился с встреченной на литературном вечере Мариной Цветаевой: «Мы обратили тогда друг к другу, — писал поэт в «Охранной грамоте», — несколько открытых товарищеских слов. На вечере она мне была живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов».
«НЕПОПРАВИМАЯ БОЛЬ» ЮРИЯ ЖИВАГО
В девяностые годы XIX века Белокаменная, по словам Бориса Пастернака, еще «сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами Третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков». С наступлением нового столетия все преобразилось: «Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц»: появились высокие доходные дома, стали расти гигантские, при этом не лишенные архитектурных изысков строения.
Город являлся для него не только малой родиной, но и душевной опорой. Здесь он влюблялся, мечтал, разумеется, творил, спорил с собратьями по перу и самим собой. Порой сожалел и сокрушался: «Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева».
Анна Ахматова говорила: «Пастернак чувствует Москву, я — Ленинград, а Осипу (Мандельштаму. — «Свой») дано и то и другое».
Действительно, Москва всегда была рядом: приветствовала уличными фонарями, шуршала и повизгивала шинами автомобилей, то взбадривала, то вспугивала звонками трамваев, тревожила мельканием теней и «шарканьем клумб», будоражила неожиданными возгласами-криками. В его стихах город сливается с природой и людьми: «Ветер за руки схватив, / Дерева / Гонят лестницей с квартир / По дрова. / Снег все гуще, и с колен — / В магазин / С восклицаньем: «Сколько лет, / Сколько зим!»
Строф, изображающих собственно облик Москвы, у Пастернака сравнительно немного. Даже в напитанном его фирменной экспрессией стихотворении «Десятилетье Пресни» дается не описание улицы, а воспоминание о революции 1905 года:
…Стояли тучи под ружьем
И, как в казармах батальоны,
Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,
И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость — неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестилались снежным слоем
И вечной памятью героям
Стоял декабрь. Ряды окон,
Не освещенных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.
В этих строчках — водопад ассоциаций, метафор, аллегорий. Здесь явственно звучат музыкальные аккорды, запечатлены сильные образы (Пастернак говорил, что к поэзии он шел от музыки и философии, а также живописи отца, художника-импрессиониста).
Более детально изображена Москва в его прозе. К примеру, в злополучном романе упоминается дом в Камергерском, а на пересечении Серебряного переулка и Молчановки главный герой покупает у мальчишки-газетчика экстренный выпуск с сообщением об установлении Советской власти.
В свой последний путь доктор Живаго отправляется от угла Газетного переулка. Он едет на работу в Боткинскую больницу в вагоне идущего по Никитской трамвая. И вдруг ощущает «непоправимую боль».
ЛАКОВАЯ ЗЕЛЕНЬ ТОПОЛЕЙ
В «Охранной грамоте» автор признавался: «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина». Ехал к нему в Глазовский переулок с волнением, даже трепетом: «Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокли к Смоленскому, по колено в воде, мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы». Подобные «кинохроникальные» наблюдения едва ли менее ценны, чем пастернаковская поэзия. «Отснятые кадры» и много десятилетий спустя позволяют в мельчайших деталях рассмотреть то, что выхватывал из хаоса будней его зоркий глаз-объектив.
На Тверском бульваре Пастернак впервые увидел Маяковского. Огромный человек «разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, — играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало… Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались».
Да, Москва Бориса Пастернака навевает у читателя чаще всего элегическое настроение, но разве можно это отнести к художественным недостаткам?
Проезжая по Камергерскому переулку, его альтер эго видит «черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон», сквозь которую просачивается зазывное сияние свечи. Самый грустный и романтичный из всех известных миру москвичей вышептывает первые слова бессмертного стихотворения: «Свеча горела на столе, свеча горела».
«CВОЙ». Журнал Никиты Михалкова. Февраль, 2020


