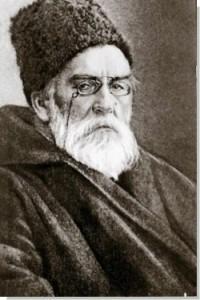 Имя Льва Сергеевича Голицына в годы советской власти подвергалось забвению и лишь сравнительно недавно стало широко известно. Однако и поныне в ходу те слухи и сплетни, которые отравили ему последние годы жизни, а реальный вклад Льва Голицына в развитие отечественного виноградарства и виноделия остается недооцененным.
Имя Льва Сергеевича Голицына в годы советской власти подвергалось забвению и лишь сравнительно недавно стало широко известно. Однако и поныне в ходу те слухи и сплетни, которые отравили ему последние годы жизни, а реальный вклад Льва Голицына в развитие отечественного виноградарства и виноделия остается недооцененным.
Сегодня Льву Голицыну посвящено немало восторженных публикаций, рассказывающих о нем как о неутомимом исследователе и ученом. Однако в воспоминаниях Феликса Юсупова об этом человеке можно прочесть: «Князь Лев Голицын, колосс с львиной гривой, был благороден, но страшен. Вечно пьян, ищет повода побуянить. Мало ему пить в одиночку, спаивает все свое окруженье винами собственных винокурен. Приезжал всегда с ящиками шампанского. Бывало, не поздоровается еще, а уж зовет слуг разгружать и раскрывать ящики. Соберет весь дом — и господ, и слуг — и каждого поит допьяна. Матушка боялась приездов Голицына. Однажды она сутки просидела у себя взаперти, когда одержимый князь разбушевался. Он напаивал всю прислугу, падал на диван и спал мертвецким сном. Насилу могли на другой день его добудиться и спровадить восвояси».
Как-то не вяжется портрет, нарисованный Феликсом Юсуповым, с образом выдающегося российского винодела, который был известен во всем мире. Может быть, речь идет о двух разных людях, которых, кроме имени и титула, ничего не связывает?
«Извольте меня выслушать!»
Князь Лев Сергеевич Голицын происходил из одного из древнейших дворянских родов России, который к середине XIX века уже потерял былое величие. Прадед Льва Голицына был блистательным вельможей екатерининских времен, флигель-адъютантом императрицы, его дед был генерал-адъютантом, управляющим военной канцелярией императора Павла I, а об отце Сергее Григорьевиче в родословной сказано лишь: «отставной штабс-капитан, меломан, писатель».
Мать Льва Голицына, графиня Мария Езерская, которая также принадлежала к древнему аристократическому роду, владела в Польше замком Радзивиллов. Там 12 (24) августа 1845 года и родился отпрыск, который с детства отличался неугомонным характером и незаурядными способностями. В замке находилась уникальная библиотека, где он обычно и проводил досуг.
В 1862 году Лев Голицын окончил колледж Парижского университета, получив степень бакалавра. По настоянию отца решено было определить юношу на службу в Российской империи, однако для этого требовалось изучить русский язык, который Лев Голицын совершенно не знал. Лишь в 1864 году он был принят в Министерство иностранных дел, но, судя по всему, служба не заладилась, так как через три года Голицын подал рапорт об увольнении и вышел в отставку в чине коллежского регистратора, который по «Табели о рангах» был низшим XIV чином.
Чиновник из него не получился, а потому было решено, что Лев Голицын посвятит себя науке. Осенью 1867 года он поступил в Московский университет, на юридический факультет. Учился Голицын своеобразно. Его товарищ по учебе вспоминал: «Занимался он урывками, но запоем. Он не признавал никаких условностей и часто превращал ночь в день и наоборот. Экзамены держал в университет всегда удачно, но я не вполне уверен в том, что его ответы точно совпадали с вопросами». История о том, как он сдавал экзамен у профессора Юркевича, вошла в анналы университета: «Взяв билет, Голицын начал отвечать, развивая перед профессором какое-то положение, вероятно, не без внесения в него личных его взглядов. Юркевич пробовал раза два возвратить его к существу билета, но Голицына уже занесло. Наконец, Юркевич вскочил, застучал по столу и, побледнев от волнения, объявил Голицыну, что он прекращает экзамен и ставит ему единицу, так как он ничего не знает и несет какой-то сумбур. Голицын рассвирепел, стукнул кулаком по столу так, что стоявшая на нем чернильница перевернулась и залила сукно и бумаги, заревел на профессора: «Вы не смеете со мной так говорить, извольте меня выслушать!» Юркевич был совсем миниатюрный человечек, а Голицын большого роста, широкоплечий, с крупными чертами лица, большой бородой и с длинной шевелюрой, а голос у него был громоподобный. Юркевич растерялся, дрогнул и быстро исчез из аудитории. История эта кончилась обоюдными извинениями и переэкзаменовкой».
В 1871 году Лев Голицын окончил университет и был оставлен на два года «для усовершенствования в науках и приготовления к профессорскому званию» при кафедрах государственного и римского права. Насколько известно, магистерскую диссертацию Голицын успешно защитил, однако на этом его занятия наукой завершились. Деятельная натура князя никак не соответствовала образу книжного червя. Еще учась в университете, он увлекся археологией, самостоятельно исследовал несколько стоянок каменного века в бассейне Оки, в связи с чем был избран членом-корреспондентом Императорского московского археологического общества. Во Владимирской губернии он развил бурную общественную деятельность, избирался почетным мировым судьей, гласным муромского уездного и владимирского губернского собраний. Везде он с жаром отстаивал общественные интересы, коршуном набрасываясь на тех, кто заботился лишь о личном благополучии. Так, например, однажды он влепил затрещину муромскому предводителю дворянства помещику Засецкому, причем общественность сочла, что Голицын был совершенно прав.
По стопам Петра Палласа
Но среди всех дел, которыми в ту пору занимался Лев Голицын, было одно, вызывавшее у него жгучий интерес. Будучи в Европе, Голицын со свойственной ему энергией и одержимостью изучил все, что касалось виноградарства и виноделия, став в этой области признанным знатоком. Рассказывают, что он мог по форме листьев различать сотни сортов виноградной лозы, а по вкусу и запаху вина определять не только сорт винограда, из которого оно изготовлено, но и регион, в котором он вырос, особенности почвы и даже погоду — дождливым или солнечным было лето.
Сегодня в многочисленных путеводителях можно прочесть, что Лев Голицын, купивший в 1878 году имение Парадиз, позже переименованное им в Новый Свет, был отцом российского шампанского. Но это не совсем так. Первым, кто сделал в Крыму опытную партию шампанского, был академик Петр Паллас, причем случилось это в 1799 году. А в 1812 году на базе Судакского училища виноделия было основано предприятие, специализировавшееся на производстве шампанского. Неверно и то, что до Голицына крымское шампанское было низкого качества. По мнению знатоков, шампанское «Ай-Даниль», которое в середине XIX века производилось в имении князя Михаила Воронцова, не уступало настоящему Cremant. Однако после Крымской войны виноделие на полуострове заглохло, а к концу XIX века возобладало мнение, что произвести высококлассное вино в России невозможно. Во всяком случае, так утверждали французские специалисты.
Заслуга Льва Голицына заключается в том, что он в очередной раз опроверг это утверждение. «Что такое виноделие? — писал он в докладе удельному ведомству. — Это наука местности. Перенос культуры Крыма на Кавказ — абсурд, а перенос культуры какой-нибудь заграничной местности во все виноградники России — это петушьи ножки всмятку». Он не уставал доказывать, что особенности Крыма требуют особой культуры виноделия. Так, на запрос Министерства земледелия о вырождении французских лоз на Южном берегу Крыма Голицын со свойственной ему прямотой ответил: «Никакого перерождения виноградной лозы на Южном берегу Крыма нет, а получается другой продукт на месте того, который выходит на родине, в силу климатических условий Крыма. Если выписывать из-за границы новые лозы, то продукт от них ничем не будет отличаться от продуктов, получаемых от чубуков давно существующих в Крыму лоз».
Заключение Льва Голицына имело большой вес, так как он считался экспертом мирового уровня, а его многолетние усилия по выращиванию винограда и виноделию увенчались успехом. Белые и красные вина Голицына, а также шампанское завоевали множество наград на российских выставках, затем покорили Америку («золото» в Луисвилле и Нью-Орлеане), а в 1889 году удостоились внеконкурсного «золота» в Париже. В 1895 году Голицын завоевал первый приз на выставке в Бордо, а в 1900 году гран-при на всемирной выставке в Париже, где его шампанское было признано лучшим в мире.
А что же случилось с прославленными французскими виноделами, почему они уступили пальму первенства Льву Голицыну? Как известно, количество алкоголя в вине ограничено естественным содержанием фруктозы в гроздьях — из каждых 16 г сахара при ферментации сусла образуется один объемный процент алкоголя. Соответственно уровень содержания спирта в вине колеблется в зависимости от уровня зрелости самого винограда. Удачный год — больше фруктозы, больше спирта, интереснее вино. А что же делать, если год выдался неудачным? Можно, например, добавить сахар. Этот процесс, когда во время брожения в виноградное сусло добавляют сахар, называется шаптализацией — по имени французского министра Жана-Антуана Шапталя, который в 1801 году предложил компенсировать сахаром плохие погодные условия и неудачные урожаи. Такая практика стала общепринятой, но уже через несколько лет широкого применения тростникового и свекловичного сахара виноградари забили тревогу. Выяснилось, что фермеры перестали заботиться о качестве винограда. Лишь в самом конце XIX века во Франции были приняты жесткие меры по борьбе с подделками — добавление сахара в виноградное сусло было запрещено на юге страны и строго ограничено на севере.
Скандал на съезде виноделов
Между тем в России процесс производства суррогатного вина только набирал обороты. В феврале 1903 года в Одессе состоялся третий съезд российских виноградарей и виноделов. Члены комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства во главе со Львом Голицыным настаивали на полном запрете использования свекловичного сахара в виноделии, однако многие помещики и производители сахара придерживались мнения, что в этом нет ничего предосудительного. «Пора, наконец, отрешиться от этого дикого слова: «натуральное вино», — с пеной у рта доказывал один из представителей сахарного лобби. — Вино — это произведение человека, натуральный продукт только виноград. Я предлагаю одесскому съезду отвергнуть понятие «натуральное вино». Это предложение поддержал консультант Министерства земледелия и государственных имуществ В. Таиров: «Я абсолютно согласен. С точки зрения науки, понятие «натуральное вино» не существует!»
Лев Голицын с негодованием бросился на Таирова и, чуть не стащив того с трибуны, обвинил съезд в измене древним принципам виноделия, в подсовывании потребителям низкокачественных подделок. Этот демарш расколол съезд. Большинством голосов была принята резолюция, осуждающая Голицына. Ему и его сторонникам ничего не оставалось делать, кроме как покинуть съезд.
Вскоре уровень фальсификации вин в России достиг невиданных масштабов. В 1909 году комитет виноградарства констатировал: «Безобразное положение нашего винного рынка, не делающего почти никакого различия в покупной стоимости между качествами продуктов, в последние десять лет сделало культуру более ценных сортов невыгодной».
Голицын, принципиально не использовавший сахар при производстве вин, терпел большие убытки — в 1905 году, заполнив подвалы шампанским, он прекратил его производство.
Но это было ничто по сравнению с его травлей, развернутой в газетах. Князя называли выжившим из ума отшельником, колдуном, который добавляет в свои вина неведомое зелье.
О виноделе распространяли грязные слухи и сплетни. Не считая для себя возможным публично оправдываться, он очень страдал. Чувствуя, как гибнет дело всей его жизни, Лев Голицын, который по натуре был человеком веселым и жизнерадостным, померк, стал угрюмым и раздражительным. Владимир Гиляровский писал, что в ту пору «извозчики звали его «диким барином», а татары прозвали его «Аслан дели» — сумасшедший Лев». Именно к тому времени относятся те визиты, о которых рассказывал Феликс Юсупов.
Голицын искал поддержки в Петербурге, но безуспешно. Высшие слои тогдашнего общества предпочитали французские вина, а до того, что пьют простолюдины, им не было никакого дела. Отчаявшись, в январе 1912 года Голицын попросил Николая II принять в дар имение Новый Свет с его виноградниками и подземными складами, полными вина. «Мое заветное желание, — писал Лев Сергеевич в прошении, — чтобы все сделанное мною служило усовершенствованию русского виноделия». Предложение ознаменовать этот дар наградой Голицын отверг, заявив, что «наградами и чинами не посрамлен».
Князь умер 26 декабря 1915 года от воспаления легких и был похоронен в одном склепе со своей женой. После революции, если верить воспоминаниям его крестницы Е. А. Градецкой-Маклаковой, «прах Льва Сергеевича был выброшен из склепа в балку, и татары, которые его очень любили и почитали, собрали что могли и захоронили».


