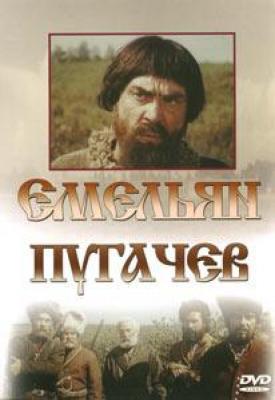
СЫН КАЗАНСКОГО ДВОРЯНИНА На Поволжье шалили шайки разбойников, шишей и прочей гулящей вольницы, нападали на барские усадьбы, воровали имущество и скот, жгли помещичьи дома, и горе было тем дворянам, что попадали им под руку. Вполне возможно, что маленького Дмитрия могла постичь та же участь, что и его двоюродного брата пятнадцать лет назад, когда пугачевцы напали на имение Блудовых в Чистопльском уезде. Тогда погиб дядя Дмитрия вместе со всем семейством, и только грудного сына кормилице удалось как-то спрятать. Нашлись, однако, добрые люди, которые доложили разбойной вольнице, что остался еще один из Блудовых.
Те вернулись и один из злодеев, как писал о том друг и биограф Д. Н. Блудова Егор Ковалевский, схватив за ноги ребенка, размозжил ему череп о стену на глазах бедной кормилицы. Маленького Дмитрия спасла его мать, Екатерина Ермолаевна.
Когда на ее имение в Спасском уезде напали разбойники, она мобилизовала на их отражение дворню и весьма искусно использовала для этого две пушчонки, имеющиеся при барском доме. Кроме того, по прошествии 15 лет после казни Пугачева, наглости у разбойников заметно поубавилось. Посему, собственные жизни и имение были сохранены, однако Екатерина Еромлаевна выехала из Казанской губернии в родовое имение Блудовых Романово, в Шуйском уезде Владимирской губернии, а затем и вовсе перебралась с сыном в Москву Дмитрий Николаевич Блудов родился в селе Романово 5 апреля 1875 года. Село это было пожаловано некогда первым из Романовых Назарию Васильевичу Блудову, сподвижнику Минина и князя Пожарского и командиру вяземских ополченцев.
В память сей царской милости вотчина и получила такое название. А вообще, род Блудовых был древнее не придумаешь. Еще в 980 году Ивещей Блуд, в крещении Иона, будучи воеводой в Киеве, являлся главой заговора против великого князя Ярополка, который окончился воцарением на киевском престоле князя Владимира Крестителя. Сын Ионы Гордон попал в былинные песни в качестве богатыря, несколько Блудовых были послами и воеводами при Иване IV; Игнатий Борисович и его племянник Мина Михайлович брали в 1552 году Казань, и косточки Мины Михайловича Блудова в числе 198 дворян, погибших при взятии Казани, находились в священной раке в подземелии Памятника Погибшим воинам.
, покуда не пришло время Лицемерия, Беспамятства и Лжи. Один из Блудовых, Юрий Алексеевич, в 1667-1668 годах служил дьяком в Казани, после чего, очевидно, и стали они казанскими помещиками. По крайней мере, в последнее десятилетие правления Екатерины II, два брата Блудовых, Иван и Николай Яковлевичи были казанскими дворянами и владели в Казанской губернии имениями в Чистопольском и Спасском уездах. Николай Блудов и был отцом Дмитрия.
Выйдя в отставку в чине прапорщика, он стал жить открытым домом, и псовой охотой да карточной игрой быстро расстроил свое состояние. А потом, простудившись на охоте, заболел и умер, оставив жену с двумя детьми. Выдав старшую дочь замуж за костромского дворянина Писемского, Екатерина Ермолаевна, перебравшись в Москву, всецело отдалась воспитанию сына. Ее собственный дом на Арбате близ Смоленского рынка стали посещать лучшие ученые того времени, а профессора московского университета нанимались в качестве домашних учителей для Дмитрия.
Оказалось, что у него великолепная память. За несколько лет Дмитрий изучил французский, немецкий и итальянский языки. Чуть позже овладел английским и в 1800 году, хлопотами Екатерины Ермолаевны был определен на службу в Московский Архив Коллегии Иностранных дел. С первых же дней службы Дмитрий Блудов поразил старших архивистов своим острым умом, памятью и знанием иностранных языков.
Уже через год он был произведен в коллежские асессоры, что равнялось майорскому чину, а по восшествии на престол Александра I перешел на службу в Петербург. К этому времени он сошелся с князем Дашковым, Карамзиным и подружился с Жуковским. Стал увлекаться театром и литературой, писал шутливые стихи и сатирические статьи. Одна из его сатирических статей Видение в Арзамасе дала название знаменитому литературному кружку Арзамас, коего Дмитрий Николаевич был одним из учредителей и непременным и действительным членом и собрания которого по четвергам часто проходили на его квартире, покуда он всецело не отдался государственной службе.
С 1807 года начинается его дипломатическая карьера: Голландия, Швейцария, Великобритания. Он часто удивлял меня своим умом, писал в своих Записках Ф. Ф. Вигель, а после возвращения его из Швеции начинал он ужасать меня им.
Блудов служил делопроизводителем Верховной следственной Комиссии по восстанию 14 декабря 1825 года. В 1826 году Блудов был назначен статс-секретарем и товарищем (заместителем) министра народного просвещения; с 1832 по 1839 годы Дмитрий Николаевич управлял Министерством внутренних дел и параллельно Министерством юстиции, всегда отличаясь доступностью, честностью и блестящей исполнительностью. Император Николай Павлович, по воспоминаниям того же Вигеля, очень уважал и ценил Дмитрия Николаевича. Вполне заслуженно, ему в 1842 году было пожаловано графское достоинство и членство в Государственном Совете.
Являясь председателем Департамента Законов, под его руководством и редакцией было разработано Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и выпущено два Свода Законов от 1842 и 1857 годов. С 1857 года граф Блудов участвовал в подготовке крестьянской реформы, уже являясь Президентом Петербургской Академии Наук, каковую должность он сохранит до самого смертного часа. Дмитрий Николаевич Блудов, потомок былинного богатыря, героя народного ополчения 1612 года и сын казанского дворянина умер 19 февраля 1864 года на посту Председателя Комитета Министров и Председателя Государственного Совета, первейших должностях Российского государства. ПРИЯТЕЛЬ ВОЛЬТЕРА У меня, в моей обители, гостит теперь один из Ваших подданных из Казанского царства г.
Полянский Это человек очень развитый и добрый, сердце котораго искренне предано Вашему Величеству. Из письма Вольтера Екатерине II. Никогда в окрестностях Казани, на дворе загородного Архиерейского дома, слева от входа в тенистый парк, лежала большая чугунная надгробная плита. В верхней ее части, как положено, был изображен восьмиконечный крест.
Справа и слева от него располагались симметрично наклоненные копья, а внизу плиты был изображен череп, охваченный с боков лавровыми ветками, а под ним две скрещенные берцовые кости. В пространстве между крестом и черепом была выбита надпись: Под сим знаком лежит прах Надворнаго советника Василия Ипатова сына Полянскаго, Возродившагося в 1784 году, ноября 23 дня, А всех лет жития его было 58, 8 месяцев и пять дней. Ты, читатель, вздохни к Вышнему Господу Иисусу Христу. Аминь.
Бросалось в глаза, что крест был назван знаком, а вместо даты рождения покойного стояла дата его возрождения, что, несомненно, придумал сам усопший. И действительно, был сей надворный советник Василий Ипатов сын Полянский человеком весьма неординарным Василий Ипатович Полянский родился в семье казанских дворян предположительно в 1741 году. Получил, по тогдашнему обычаю, неплохое домашнее образование и решил посвятить себя воинской службе. Будучи офицером, сумел, служа в Сибири, отличиться, да так, что об этом узнали при Высочайшем Дворе.
Это о нем Екатерина II писала Вольтеру: Этот молодой офицер отличился честностию в Сибири. Василий Полянский был принят при Дворе, всячески обласкан, а когда императрица узнала, что молодой офицер имеет сильное желание образовать себя, то устроила ему за казенный счет образовательное путешествие за границу. В мае 1771 года он посетил знаменитого ниспровергателя авторитетов, выдающегося философа-просветителя и писателя Вольтера. Большеголовый, росту не выше двух аршин и двух вершков (чуть более полутора метров), живой характером и умный, он очень понравился Вольтеру, о чем последний и отписал российской императрице, своей большой подруге по переписке.
Между Полянским и Вольтером завязалась дружба, и последний предложил новому приятелю бывать у него во всякое время, чем и пользовался весьма охотно Василий Ипатович. На обратном пути в Россию, Полянский проезжал какой-то немецкий городок увидал у одного дома несколько экипажей. Кто тут живет. поинтересовался он.
Знаменитая ворожея-предсказательница, ответили ему, и Полянский, ради интереса, зашел к ней. Старуха-гадалка разливала кофейную гущу и по ней предсказывала своим посетителям будущее. Внутренне посмеиваясь, Василий Ипатович спросил ворожею: найдется ли пропавшая у него вещь. (Незадолго до того у него пропало ружье.
) Найдется, ответила гадалка, разлив кофе, но не скорее, чем за три дня до смерти. Василий Ипатович рассмеялся и поехал дальше. И совершенно забыл о предупреждении. В 1812 году Полянскй вернулся в Россию и получил хорошую должность секретаря Академии Художеств и членство в государственной комиссии по составлению законов.
В частности, он работал над главой XXV1, называющейся Учреждения о губерниях. Видныя способности, писал биограф Полянского П. А. Пономарев в 1906 году, трудоспособность, солидное образование, дружба с Вольтером, благосклонность Императрицы все это подавало надежды на быструю и блестящую карьеру.
Однако, вышло иначе. И причиной этому была, конечно, женщина. Случилось так, что Полянский влюбился в замужнюю женщину с известной, по всей России фамилией Демидова. И, похоже, взаимно.
По крайней мере, она дала согласие сбежать с ним от мужа, и единственным разногласием между ними было то, что Полянский предлагал бежать в кибитке (так быстрее), а она предпочитала ехать в карете. Василий Ипатович согласился, и в одну прекрасную ночь увез ее от мужа. Пусть предстоял долгий; Полянский предпочел ехать с ней в Казанскую губернию, где у него были весьма доходные имения, а в самой Казани мельница. Кроме того, в Казани проживали его сестра Надежда, вышедшая замуж за представителя казанского дворянского рода Юшковых, которая, несомненно, помогла бы ему устроиться.
Но Демидов спохватился быстро и послал за беглецами погоню. Полицейские, ехавшие верхом, догнали карету быстро. Полянский пытался было отбиться от них встал на запятки кареты и, размахивая, шпагой, какое-то время не давал им приблизиться, но силы были не равны, и их взяли. Василия Ипатовича посадили в караульню при Сенате.
И началось следствие по всем правилам. Дознание вел генерал полиции Чичерин; он приходил аккуратно каждый день в определенный час и задавал одни и те же вопросы. Однажды, горячий характером и невоздержанный на язык Полянский заявил Чичерину примерно следующее: Чего вы ко мне придираетесь, ваше превосходительство. То, что сделал я, увез чужую жену, совершенно пустое, по сравнению с тем, что вытворяет наша императрица.
Что.. надулся пузырем предок виднейшего большевика и бессменного наркома иностранных дел. Оскорблять личность государыни.
Да тебе, мерзавец, знаешь, что за это полагается. Чичерин ушел и более уже не появлялся. Продержись Полянский еще чуть, и ему все бы сошло с рук, но такую глупость ему простить не хотели, и по решению сенатской комиссии он был приговорен за оскорбление личности государыни императрицы к отсечению руки. Когда материалы дела Полянского попали к Екатерине II, она только не зло посмеялась над заявлением Василия Ипатовича и отменила приговор, а, генерал-фельдмаршал граф Захар Григорьевич Чернышев взял его на поруки или, как тогда говорилось под отчет, заявив, что в молодости и сам совершал безрассудные поступки.
Граф, оставив должность президента Военной коллегии, служил тогда наместником Полоцкой и Могилевской губерний и определил его советником в могилевское наместническое управление. Быстро ознакомившись с губернией и местными вопросами, вспоминал служивший под началом Полянского чиновник Добрынин, живой и стремительный советник схватил в руки весло управления и следующий 1779 году прошел для него уже в полной славе. Итальянский и французский языки, которые знал он, как свой природный; литература, танцы, карты,. дар слова, скорая мысль, счастливая память, ловкость в письменном изложении все это создавало для него возможность доминировать в губернии, тем более, что губернатор Пассек был человек недеятельный.
Василий Ипатович любил блеснуть. В должности губернского секретаря и чине надворного советника он действовал стремительно, не задумываясь о последствиях и не всегда блюдя букву закона. Его не любили, но уважали и побаивались. Потому в городе, да и в губернии порядок при нем был.
И все бы ладно, но его опять попутал бес. То бишь женщина: Василий Ипатович влюбился в замужнюю женщину фон-Бинк, а она в него. Он просто заражал женщин своей энергией, и они совершали то, чего никогда бы не позволили себе с другим мужчиной, пусть и красавцем, но более благоразумным и менее предприимчивым. Фон-Блик согласилась уйти от мужа, и однажды ночью, когда старый генерал спал спокойно в своей опочивальне, она сбежала от него в заранее приготовленную Полянским квартиру в доме одного пастора.
Генерал, проснувшись и не найдя в доме супруги, поднял переполох, узнал, где скрывается опозорившая его женщина, но вернуть ее ему не удалось: дом пастора надежно охранялся караулом от наместнического управления, выставленным Полянским. Днем к генералу пришли полицейские и штаб-лекарь, который заявил, что должен освидетельствовать его по приказу наместнического правления на предмет способности его к брачному сожительству. Что такое..
заорал вне себя генерал, брызгая слюной. Что вы себе позволяете. Прошу прощения, ваше превосходительство, нимало не смущаясь, ответил штаб-лекарь. Я только исполняю свои обязанности и приказ наместнического правления Это этого сморчка Полянского что-ли.
совсем взбесился генерал. Да я его, да он у меня А кроме того, это воля вашей супруги, отступая от генерала, продолжал штаб-лекарь. Вот у меня и заявление ее на руках. Так что, и он кивнул полицейским.
Те взяли генерала, бывшего в шаге от инфаркта под белы рученьки и сняли с него штаны. Затем произошла процедура освидетельствования, о коей я сказать ничего не могу, ибо покуда не ведаю, как она производится, после чего штаб-лекарь и полицейские чины, заявив, что дело о разводе пойдет теперь консисторским порядком, откланялись, и ушли, а оплеванный генерал решил мстить. Вот что рассказал сам Василий Ипатович Полянский могилевскому архиепископу Георгию (Конисскому): Лишь только въехал я в большой лес, как появился перед моею коляской Фелич, сам-третий верхами. Все были вооружены.
Заградив мне дорогу, он закричал: Ну, герой могилевский, теперь ты в моих руках. Берите его. Я ответил ему: Барон. Если хочешь быть справедлив, то делай, как принято в Европе: у тебя есть пистолеты, дай мне один Не слушая ничего, двое из них соскочили с лошадей, чтобы вытащить меня.
Я схватил штуцер и приподнялся, чтобы выстрелить. Но я не ведал того, что за коляскою, по сторонам, стояло еще два злодея. Один из них хватил меня прикладом по руке и штуцеру, а другой по затылку. В это мгновение показалось мне, что я стою выше леса Злодеи потащили меня в лес, и там отбили мне толстыми плетьми плечи, руки, спину, а особливо бедра и ноги.
На Полянском не было живого места. Он был, по словам П. А. Пономарева, в самом безнадежном состоянии.
По его просьбе ему написали челобитную он едва ее подписал. Челобитная получила ход, и по решению Сената генерал фон-Бинк, как заговорщик покушения на убийство был исключен из службы и вместе с исполнителем его мести, гусаром бароном Феличем был отослан в Ригу где над ними наряжена была комиссия военнаго суда. Вот такой расклад: из одной смазливой бабенки пострадало трое хороших мужиков. Явление, надо сказать, повсеместное, печальное и, к сожалению, вневременное.
Через несколько месяцев Полянский поднялся, но ноги у него ходили плохо, и даже по дому он передвигался с палкой. Службу, конечно, пришлось оставить, и, выйдя в отставку, Полянский в 1781 году вернулся в Казань. Вместе с ним поехала и бывшая Фон-Бинк. В Казани они обвенчались.
Через какое-то время, подлечившись, Василий Ипатович поступил на службу советником Казанского губернского правления, но через год окончательно вышел в отставку и уехал в одну из своих деревень недалеко от Казани. Здесь у Полянских родились двое детей, которые умерли в раннем возрасте, что вместе с потерей здоровья и привело его, в конечном счете, к упоминаемому в начале очерка, Возрождению. Он поставил где-то в лесу часовенку с гробом внутри, и едва-ли не ежедневно ходил в нее, как он сам говорил, учиться умирать. К концу жизни религиозно-мистические настроения владели им уже безраздельно.
Однажды к нему в деревню приехал один из казанских знакомых, только что вернувшийся с Макарьевской ярмарки. Вот смотри, что я купил, сказал он хитро и расчехлил ружье. Хочу тебе подарить. Василий Ипатович взял в руки ружье и изменился в лице.
На стволе ружья было вытравлено кислотой: В. И. Полянский. Это было то самое ружье, которое было утеряно во время его образовательного путешествия по Европе.
Ему стало плохо, он слег и через три дня, как и предсказывала старуха-гадалка, он умер. Случилось это в 1800 году. Я сам всем моим бедам причиной, сказал как-то своим друзьям Василий Ипатович. И он был прав.
Это был бы великий человек, если б имел столько счастья, сколько ума, или столько терпеливости и осторожности, сколько откровенности и смелости, говорили про него те, которые хорошо его знали. После смерти Полянского его сестры Надежда Юшкова и Марфа Романова передали его библиотеку и портрет Вольтера, подаренный ему самим философом, Первой Казанской гимназии. А еще они передали в дар гимназии портрет самого Василия Петровича, работы датского художника Дарбса, написанный в 1777 году. Когда гимназия в 1814 году отделилась от университета и переехала в новое здание на нынешней улице Карла Маркса, портрет Полянского забыли, и он нашел себе место на стене университетского Кабинета изящных искусств.
Говорят, он там как и висел вплоть до 1918 года. Василий Ипатович был одет в голубую шубу, из под которой виднелся расстегнутый ворот рубахи, на голове, как и положено, завитый парик. Глаза его, под тонкими бровями на полном лице были очень выразительными, нос нахально приподнят, а тонкие сжатые губы будто едва сдерживали смех. Казалось, еще немного, и он не выдержав, прыснет заразительным хохотом ТАЙНЫ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА Теперь приступлю вывести всю историю и начало самозванца и злодея Пугачева П.
С. Потемкин. Из докладной записки Екатерине II. ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ Всю правду о Пугачевском восстании нам уже, наверное, не узнать никогда.
А то, что известно официально, о чем нам говорили в школах и на гуманитарных факультетах вузов, есть только наполовину правда, ее надводная часть, к тому же, весьма искаженная. Ведь история это, скорее, не наука, а точка зрения на те или иные события и явления в определенный отрезок текущего времени. Это Стенька Разин был казаком и разбойником. Пугачев был государственным преступником.
Почему он стал выдавать себя за якобы спасшегося императора Петра III. Кто его надоумил. Почему так разнятся Емельян Иванович Пугачев до заключения его в казанский каземат и Пугачев Емельян Иванович после побега из оного. Что сопутствовало его успехам, ведь мятеж охватывал край от Яика до Волги, Камы, Вятки и Тобола.
А, как известно, из нескольких десятков самозванцев, бывших на Руси, успехов добивались только те, за кем кто-либо стоял. Кто стоял за Пугачевым. Почему Екатерина II, пусть и с издевкой, называла Пугачева маркизом. Как объяснить череду скоропостижных и странных смертей Бибиков Голицын Михаил Потемкин Павел Потемкин.
Чего испугался генерал Кар. Что делали в войске Пугачева поляки, французы, немцы и пастор-протестант. Что было в сундуках в доме императрицы Устиньи. Чем так привязала к себе Пугачева дворянская вдова Лизавета Харлова.
Почему признанные невиновными обе жены Пугачева, его дети и теща были заключены в Кексгольмскую крепость пожизненно. Почему до сих пор не открыты все материалы по Пугачевскому бунту, в частности протоколы допросов его ближайших сподвижников. Вопросы, вопросы ОТВЕТ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ СОМНЕНИЮ На последний вопрос можно ответить сразу. Без версий и предположений.
Сходу. Итак: почему некоторые материалы по Пугачевскому бунту недоступны. Да потому, что там содержатся ответы на все поставленные выше вопросы. Или на почти все.
А это коренным образом изменит наши представления о таком масштабном явлении, как Пугачевщина. И в достаточной степени разрушит официально навязываемую нам схему исторического развития России. Тогда многое придется переписывать заново, а многочисленные труды по Пугачевскому восстанию закинуть куда подальше. Поколеблются ученые авторитеты, кормившиеся от этой темы десятилетиями.
Рухнет целое направление исторической науки, связанное с так называемыми крестьянскими войнами. Кому это надо. Власти. У нее и так сегодня под ногами весьма зыбкая почва.
Ученым. Да кто же рубит сук, на котором сидит. Пусть уж лучше остается все, как есть: Крестьянская война 1773-1775 гг. в России охватила Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье.
Возглавлялась Е. И. Пугачевым Так пишут сегодня энциклопедические словари. Кроме того, открытие доступа ко всем имеющимся материалам может обидеть некоторые зарубежные правительства.
Франции, например, или Польши. С Францией мы дружим зачем бросать тень на такие теплые отношения. А полякам и так от нас доставалось на протяжении последних трех веков не мало зачем усугублять. Словом, пусть покуда будет все так, как есть.
Посему мы попробуем сами разобраться с поставленными выше вопросами. Имея на руках те материалы, что имеем. КЕКСГОЛЬМСКИЕ СИДЕЛЬЦЫ После смерти Екатерины II ее сын, Павел Петрович, в начале своего царствования делал многое принципиально наперекор деяниям своей великой матери. Он менял существующие порядки, законы и уставы, возвращал из ссылок опальных царедворцев и даже освобождал из тюрем преступников, посаженных по специальным указам императрицы.
С целью проведения ревизий тюремных сидельцев, в том числе и на предмет освобождения, по крепостям и острогам были командированы чиновники, должные по возвращении предоставить полные отчеты по имеющимся заключенным. В крепости Кексгольмскую и Нейшлотскую был отправлен в 1797 году служивший при Тайной Экспедиции коллежский советник Макаров. В его отчете, частично цитируемом в журнале Исторический вестник за 1884 год, содержится следующие строки: В Кексгольмской крепости: Софья и Устинья, женки бывшаго самозванца Емельяна Пугачева, две дочери, девки Аграфена и Христина от первой и сын Трофим. С 1775 года содержатся в замке, в особливом покое, а парень на гауптвахте, в особливой (же) комнате.
Содержание имеют от казны по 15 копеек в день, живут порядочно. Женка Софья 55 лет, Устинья около 36 лет (в документе, должно быть, описка: 39 лет Л. Д. ) Присланы все вместе, из Правительствующаго Сената Имеют свободу ходить по крепости для работы, но из оной не выпускаются; читать и писать не умеют.
Вне всякого сомнения, император Павел читал сей отчет коллежского советника Макарова. Но в отличие от государственного преступника Н. И. Новикова, коему Павел открыл ворота из Шлиссельбургского централа, и А.
Н. Радищева, того самого, про которого Екатерина II сказала бунтовщик хуже Пугачева и коего Павел Петрович вернул из сибирской ссылки, жены и дети Пугачева в крепости БЫЛИ ОСТАВЛЕНЫ еще на неопределенный срок. Очевидно, там они и кончили свои дни, не получив свободу ни при Александре I, ни при Николае I. Чего же так боялись целых четыре царственные особы, начиная с Екатерины II и кончая Николаем I.
Почему, признав, согласно пункта 10 правительственной сентенции, что ни в каких преступлениях не участвовали обе жены самозванцевы, первая Софья, дочь донскаго казака Дмитрия Никифорова (Недюжина) вторая Устинья, дочь яицкого казака Петра Кузнецова, и малолетние от первой жены сын и две дочери, их указом Сената все же закрыли пожизненно в Кексгольмской крепости. Это тоже ясно. Чтобы они не сболтнули чего лишнего там, где не надо, ибо они, в большей степени Софья с детьми, знали нечто такое, что не стыковалось с официальной версией пугачевского бунта. Версия сия была утверждена высочайше и сомнению не подлежала.
Устинья это нечто такое могла знать, могла не знать, хотя, кое чем Пугачев, конечно, мог с ней поделиться в минуты откровений. Что же такого могли знать кексгольмские сидельцы, из-за чего их до самой смерти держали в крепости. Что могли сболтнуть Софья Дмитриевна и ее дети, чего слышать не дозволялось никому. Полагаю, то, что казненный 10 января 1775 года в Москве государственный преступник Емельян Пугачев таковым вовсе не являлся, имел совершенно другое имя и мужем Софьи, а, стало быть, и отцом ее детям никогда не был.
Но об этом позже. СОФЬЯ Поначалу для Софьи, дочери служилого казака Дмитрия Недюжина станицы Есауловской все вроде бы складывалось ладно: двадцати годов вышла она замуж за служилого казака войска Донского Емельяна Иванова сына Пугачева и жила с ним своим домом в станице Зимовейской. Родила от него пятерых детей, из коих двое померли, что в тогдашние времена было делом обычным, и десять лет прожила мирно и покойно. Правда, муженек ее был довольно буйным и не единожды был бит плетьми за говорение возмутительных и вредных слов, время от времени впадал в бродяжничество и по казацким дворам шатался, писал А.
С. Пушкин в своей Истории Пугачева, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому и принимаясь за всякие ремесла. А в 1772 году, по собственным ее показаниям, муж оставивши ее с детьми, неведомо куда бежал. По станице пошли слухи, что Емелька замотался, разстроился, был в колодках и бежал (А.
В. Арсеньев. Женщины Пугачевскаго возстания. //Исторический вестник.
СПб. , 1884, т. XVI, стр. 612).
Где его носило, она не ведала. Только однажды ночью в окно ее избы робко постучали. Софья глянула и обомлела: за окном стоял ее муж. Не сразу она впустила его.
В бегах я, ответил Емельян на ее немой вопрос. Хлеба дай. Для Софьи это был счастливый случай отомстить сбежавшему от нее и детей муженьку, о чем она, верно, мечтала со дня его побега. И она женская месть не знает жалости как-то изловчившись, смогла на время покинуть дом и донести о сем визите станичному начальству.
Пугачев был пойман и отправлен под караулом в Черкасск. С дороги он бежал и с тех пор уже на Дону не являлся. (А. С.
Пушкин. Собрание сочинений. М. , 1962, т.
7. , стр. 53). Зато после очередного побега в мае 1773 года уже из казанского каземата, помещавшегося в подвалах старого здания Гостиного двора, Пугачев в сентябре явился на хуторах близ Яицкого городка уже под именем государя Петра III, мужа неверной жены, как славил самозванец императрицу Екатерину II, у которой шел отнимать престол.
Военные успехи самозванца, распространение невыгодных для императрицы слухов, необходимость уличения личности Пугачева и несходства его с погибшим Петром III вызвали арест Софьи Дмитриевны с детьми и брата Пугачева Дементия в начале октября 1773 года. Их всех привезли в Казань, как было велено императрицей без всякаго оскорбления для уличения самозванца в случае его поимки. Начальник военных действий против бунтовщиков генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, во исполнение распоряжений Екатерины, писал в Казань начальнику Секретной Комиссии А. М.
Лунину: Привезенную к вам прямую жену Пугачева извольте приказать содержать на пристойной квартире под присмотром, однако без всякаго огорчения, и давайте ей пропитание порядочное ибо так ко мне указ. А между тем не худо, чтобы пускать ее ходить, и чтоб она в народе, а паче черни, могла рассказывать, кто Пугачев, и что она его жена. Сие однако ж надлежит сделать с манерою, чтоб не могло показаться с нашей стороны ложным уверением; паче ж, думаю, в базарные дни, чтоб она, ходя, будто сама собою, рассказывала об нем, кому можно или кстати будет. Позже, когда над Казанью нависнет угроза захвата ее Пугачевым, пристойной квартирой ей будет служить тот же каземат Гостиного двора, откуда несколькими месяцами раньше был устроен побег ее мужу, весьма и весьма интересный, коему будет посвящена позже отдельная глава.
Время от времени ее водили на дознание в Кремль, и Софья Дмитриевна, как на духу, рассказывала все и о себе, и о муже. Из ее показаний и был составлено Описание известному злодею и самозванцу о 14 пунктах, к которому мы еще вернемся. А затем, 12 июля 1774 года, когда самозванец возьмет Казань и даст команду своим генералам выпустить всех тюремных сидельцев на волю, последует встреча ее и детей, соответственно, с мужем и отцом. Весьма, надо сказать, любопытная ИМПЕРАТРИЦА УСТИНЬЯ В 80-е годы XIX столетия по городам и селам Урала разъезжало несколько групп комедиантов, в репертуаре которых было действо, изображающее свадьбу Пугачева и Устиньи Кузнецовой, второй законной жены самозванца.
Как писали Оренбургские губернские ведомости в 1884 году, невесту изображала молоденькая артистка, и представления эти всегда привлекали толпу зрителей, с любопытством и сочувствием смотрящую на изображение своей народной героини. Лично у меня, говоря об этой юной казачке, которой крайне не повезло в жизни из-за ее красоты и молодости, появляется образ круглолицей румяной девушки с поднятыми в непроходимом удивлении бровями, полуоткрытым ротиком с пухлыми губами и глазами, в которых застыл немой вопрос: за что. Наверное, она так до конца и не смогла понять, что же такое с ней произошло. И так прожила до скончания своих дней, уткнувшись куда-то внутрь себя и не видя ничего вокруг, измученная вопросом, который она каждый день задавала неизвестно кому: почему я.
Вот уж судьба, про которую так и хочется воскликнуть чур меня Она, действительно, была очень молода и красива, дочь Яицкого казака Петра Кузнецова. Было ей лет шестнадцать, когда генералы самозванного Петра III задумали женить на ней своего царя. Собран был казачий круг, который постановил послать к государю выборных с этим предложением. Послали.
Послал выборных и Пугачев, заявив: У меня есть законная жена, императрица Екатерина Алексеевна (эх, слышала бы эти слова Екатерина II. Л. Д. ).
Она хоть и повинна предо мной, но здравствует покуда, и от живой жены жениться, мол, никак не можно. Вот верну престол, тогда видно будет Конечно, Емельян Иванович был не прочь жениться на прекрасной казачке и хотел просто обойтись без венчания, жить с ней, так сказать, в гражданском браке, но казачий круг, как писал в позапрошлом веке автор очерка Женщины Пугачевскаго возстания А. В. Арсеньев, решительно этому воспротивился, представил убедительные доводы насчет недействительности брака с Екатериной, и Пугачев согласился венчаться на Устинье Кузнецовой со всею возможною в Яицком городке роскошью, как подобает царской свадьбе.
Венчание совершилось в январе 1774 года в Яицком городке, что ныне есть город Уральск в Казахстане. Молодым выстроили дом, называвшийся царским дворцом, с почетным караулом и пушками у ворот. Устинья стала называться государыней императрицей, была окружена роскошью, изобилием во всем и фрейлинами, набранными из молодых казачек-подруг. В царском дворце пошли пиры горой и разливанное море, писал журнал Исторический Вестник.
На этих пирах императрица Устинья Петровна была украшением и принимала непривычныя ей почести и поклонение, от которых замирало ея сердце и кружилась голова. Ей, не разделявшей ни мыслей, ни планов Пугачева, не знавшей ложь это или истина, должно было все казаться каким-то сном на-яву. Самозванец велел поминать во времена богослужений Устинью Петровну рядом с именем Петра Федоровича как императрицу, что и делалось. Например, в городе Саранске Пензенской губернии, при торжественном въезде в него в конце июля 1774 года, Пугачев был встречен хлебом-солью не только простонародьем, но купечеством и духовенством с крестами и хоругвями, а на богослужении архимандрит Александр, писал А.
В. Арсеньев, помянул вместе с Петром Федоровичем и императрицу Устинью Петровну (вместо Екатерины II Алексеевны Л. Д. ).
Но Петр III не любил свою царицу, хоть и была она писаной красавицей. Ума она была недалекого, другом не стала, хорошей любовницей быть не умела. Пугачев же был мужик ума острого и кипел жизнью, и женщина ему была нужна другая. Похоже, женитьба на Устинье не отвлекла Емельяна Ивановича от воспоминаний о Елизавете Харловой, да и в сравнении с прекрасной и умной майоршей, хорошенькая казачка, несомненно, проигрывала по многим статьям.
Устинья Петровна по большей части жила с фрейлинами и матерью, и Пугачев ездил к ней из-под Оренбурга в Яицкий городок раз в неделю исполнять супружеские обязанности. Более приближать ее к себе Петр Федорович не собирался. Примечательно, что позднее, на вопрос следователей сколько они жили с Пугачевым. недалекая Устинья ответила буквально, подсчитав только количество его приездов к ней: Десять дней.
Ее взяли 17 апреля 1774 года, когда генерал-майор Павел Дмитриевич Мансуров со своим деташементом снял осаду крепости Яицкого городка. Мятежникам было не до императрицы, фрейлины разбежались, и Устинья вместе с матерью была заключена в войсковую тюрьму. 26 апреля 1774 года их отправили в Оренбург, где заседала секретная комиссия, проводившая следствие, и где их допрашивал сам ее председатель, коллежский советник Тимашев. Летом 1774 года императрица Устинья посетила Казань.
Визит этот, конечно, не был добровольным; ее с матерью привезли скованными и поместили в гостинодворский каземат, откуда 12 июля 1774 года была освобождена вольницей Пугачева настоящая жена самозванца, Софья, вместе с тремя их детьми и где год назад сидел сам Емельян Иванович. Так что, вся семейка Пугачева в полном составе, включая и его брата Дементия, побывала, а кое-кто и не единожды, в славном городе Казани. Казанской секретной комиссией заведовал троюродный брат знаменитого фаворита Екатерины II Павел Сергеевич Потемкин. Он, гвардейский капитан Галахов и майор Рунич допрашивали Устинью.
Помимо прочего, она рассказала о сундуках своего мужа в их доме в Яицком городке. За ними спешно был послан нарочный, и сундуки под надежным конвоем были препровождены в Казань. Что было в них, о том бумаги секретной комиссии накрепко молчат, но, очевидно, если бы в них находилось только награбленное за Уралом добро, комиссия об этом не преминула бы сообщить: вот, де, истинные цели преступника, назвавшегося государем Российским грабеж и личное обогащение. В августе 1774-го привезли в Казань и Софью с детьми.
И с этого момента обе жены Пугачева были связаны единой судьбой и были вынуждены терпеть одну участь. После ареста Пугачева, Устинью и Софью отослали в Москву для новых допросов. Показания снимал сам начальник московского отделения Тайной Экспедиции обер-секретарь Сената Степан Иванович Шешковский, одно имя которого наводило ужас на всех не совсем законопослушных граждан. После казни Пугачева 10 января 1775 года и приговора отдалить Софью и Устинью куда благоволит Правительствующий Сенат, Устинья была истребована в Петербург: императрица пожелала взглянуть на недолговременную императрицу.
Когда Устинью привели во дворец, Екатерина Алексеевна очень внимательно осмотрела ее и сказала окружающим вельможам: А она вовсе не так красива, как мне говорили С этого времени более двадцати лет об Устинье не было никаких сведений. И только после вступления на престол в 1796 году Павла I и ревизии тюрем стало известно, что Устинья и Софья находятся в Кексгольмской крепости, получают от казны содержание по 15 копеек в день и покидать крепость не имеют права. Устинья так и не вернулась в свой Яицкий городок. Да и селения теперь такого уже не было; специальным указом Екатерины он был переименован в город Уральск.
Но именно об Устинье еще долго жила в народе, особенно на Урале, память и сочувствие к ее нескладной судьбе. Не случайно представления о свадьбе Пугачева и Устиньи Кузнецовой давало кочующим комедиантам в XIX веке самые большие сборы. НЕКТО ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ Пугачев был старший сын Ивана Измайлова, простаго Донскаго казака Зимовянской станицы, служившаго с отличным усердием, храбростию и благоразумием Петру Великому в войне против Карла XII и турок; он попался в плен к сим последним за несколько дней до заключения Прутскаго мира, но вскоре с двумя товарищами спасся, и, при великих опасностях, возвратился в отечество; и по верности и усердию своему искав всегда случая отличаться, пал с оружием в руках во время войны противу Турок при императрице Анне Ивановне, в 1734 годе. Сын его Емельян, родившийся в 1729 годе, по распутству матери и безпечности опекуна и дяди предался с самой молодости сварливому, буйному и неистовому поведению Это писал сенатор А.
А. Бибиков, сын генерал-аншефа А. И. Бибикова, младший современник Емельяна Пугачева.
Прошу читатель обратить внимание на год рождения Пугачева 1729-й. Казак Емельян Пугачев участвовал в Семилетней войне с Пруссией и брал в 1769 году Бендеры у турок, за что получил младший офицерский чин хорунжего. Был на службе во 2-й армии. В 1771 году по причине болезни, называемой черной немочью, был отпущен для излечения.
А теперь вернемся к показаниям Софьи Дмитриевны от 1773 года, отправленным из Казани в Военную Коллегию. Название они имели следующее: Описание известному злодею и самозванцу, какого он есть свойства и примет, учиненное по объявлению жены его Софьи Дмитриевой. И содержали 14 пунктов. 3.
Тому мужу ее ныне от роду будет лет сорок, лицом сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он выбил саласками, еще в малолетстве в игре, а от того времени и доныне не вырастает. На левом виску от болезни круглый белый признак, от лица совсем отменный величиною с двукопеечник; на обеих грудях, назад тому третий год, были провалы, отчего и мнит она, что быть надобно признакам же. На лице имеет желтые конопатины; сам собою смугловат, волосы на голове темно-русые по-казацки подстригал, росту среднего, борода была клином черная, небольшая. 4.
Веру содержал истинно православную; в церковь божию ходил, исповедывался и святых тайн приобщался, на что и имел отца духовного, Зимовейской станицы священника Федора Тихонова, а крест ко изображению совокуплял большой с двумя последними пальцами. 5. Женился тот муж ее на ней, и она шла, оба первобрачные, назад тому лет десять, и с которым и прижили детей пятерых, из коих двое померли, а трое и теперь в живых. Первый сын Трофим десяти лет, да дочери вторая Аграфена по седьмому году, а треть Христина по четвертому году 7.
В октябре месяце 772 года он, оставивши ее с детьми, неведомо куда бежал Из показаний жены Пугачева следует запомнить, что ему на 1773-й год от роду будет лет сорок и росту он среднего. Для полноты картины я буду вынужден повториться: муж у Софьи был человеком довольно буйным, на язык невоздержанным, за что не единожды был бит плетьми, имел привычку впадать в бродяжничество и, вообще, не отличался большим умом. Показателем сему может служить его глупая авантюра, когда Пугачев в 1772 году пришел в Яицкий городок и стал подговаривать казаков уйти за Кубань к турецкому султану, обещал по 12 рублей жалованья на человека, объявлял, что у него на границе оставлено до 200 тысяч рублей да товару на 70 тысяч, а по приходе их паша-де даст им до 5 миллионов. (А.
С. Пушкин. Собрание сочинений, М. , 1962, т.
7, Примечания, стр. 122). Когда Пугачев уже сидел в 1773 году в казанском каземате и приводился на допросы в губернскую канцелярию, казанский губернатор генерал-аншеф Яков Ларионович фон Брант назвал его вралем, о чем и отписал Сенату в своем рапорте от 21 марта 1773 года. Кроме того, похоже, Емельян Иванович был еще и вороват.
Атаман Зимовейской станицы Трофим Фомин показывал на дознании, что, отбыв в феврале 1771 года на излечение в Черкасск, Пугачев вернулся через месяц обратно на карей лошади, будто бы купленной у одного казака в Таганроге. Но казаки на станичном сходе не поверили ему, и Пугачев бежал. Емельян Иванович вообще почитался на станице человеком беспутным. Мог ли такой человек поднять семь губерний против дворян, правительства и самой государыни императрицы.
Мог ли он стоять во главе столь масштабного движения, названного крестьянской войной. Да, причем, в одиночку. Или, пусть даже и со сподвижниками, мало чем отличающимися от него по характеру и способностям. Явно не мог.
Запомним и это. Кстати, идея назваться императором Петром III не была оригинальной. Слухи о том, что государю Петру Федоровичу чудом удалось избежать смерти, ползли по России с самого года его гибели 1762-го. В конце 60-х годов они усилились, а в начале 1772 года некто Богомолов, из крестьян господ Воронцовых, беглый солдат 22-й полевой команды явился близь Царицынской крепости под именем императора Петра III; но быв пойман и посажен в крепостную тюрьму, над коим и произведено было строгое следствие, которое комендант, полковник Иван Еремьев Циплетов с нарочным сопроводил к Астраханскому губернатору Бекетову, от коего получил предписание, отправить арестанта сего за воинским караулом к нему, губернатору, в Астрахань, что комендант и исполнил.
Но между получения о том предписания, через неделю времени после следствия над сим злодеем, в самую полночь сделался в крепости бунт и народ собрался у тюрьмы, чтоб оную разломать и самозванца освободить; но расторопный и благоразумный комендант своим присутствием не допустил бунтовщиков разломать тюрьму, разсыпал оных и многих захватил; но во время сего действия брошенным в него кирпичом ранен в голову, о чем также донес г. губернатору. Доставленный от коменданта арестант в Астрахань судился там несколько недель, и определено было возвратить самозванца в Царицинскую крепость для наказания на месте преступления, и быв в оную отправлен. Умер в дороге за 250 верст от Царицына.
Неизвестность, куда давался самозванец, возродила в народе мысль, что он точно признан за настоящаго Петра III; после чего, месяцев через семь, явился новый император Петр III в дворцовой волости, села Малыковке донской казак Емелька Пугачев. (Русская старина, СПб. , 1870, т. II, стр.
124-125). Знал об этом своем предшественнике Пугачев, или не знал не важно. Важно, что об этом знали люди, стоявшие за ним (а что таковые были, я вполне допускаю и попробую объясниться об этом ниже) и вложившие в голову Пугачева 2 (отныне Пугачев до побега из Казанской тюрьмы в середине 1773 года будет зваться номером первым, а после побега номером вторым) идею назваться императором Петром III. Конечно, утверждение о том, что вот за Богомоловым никто не стоял, потому-де, он и не состоялся, как самозванец, а Пугачев-де, был успешен потому, что за ним была некая сила, хоть и вполне логично, но всего лишь слова.
Нужны факты. И они есть. РАСКОЛЬНИЧИЙ СЛЕД Итак, в октябре 1772 года Емельян Иванович бросает семью, а в середине декабря арестовывается в селе Малыковке за те самые разговоры бежать к турецкому султану. При нем обнаруживается ложный письменный вид (паспорт Л.
Д. ) из-за польской границы. Оказалось, что Пугачев 1 бежал за границу в Польшу и жил там какое-то время в раскольничьем монастыре близ слободы Ветка. Паспорт был ему дан на Добрянском форпосте для определения на жительство по реке Иргизу посреди тамошних раскольников.
Записан был в бумагах Емельян Иванович как раскольник. Он показался подозрительным, был бит кнутом и пересылаемый для допросов по инстанциям, попал в Симбирск, а оттуда был отправлен в Казань, куда и приведен 4-го января 1773 года Через несколько дней губернаторский секретарь Адриан Абрамов потребовал Пугачева в канцелярию и прочитал ему допрос, снятый с него в Малыкове; а когда Пугачев отрекся от взведенных на него показаний, то секретарь, не делая никакого письменнаго допроса, только плюнул и приказал с рук сбить железа. Вообще на этого арестанта не было обращено большаго внимания (Журнал министерства народного просвещения. СПб.
, 1874, ч. CLXXVI, стр. 2). Что его понесло в Польшу к раскольникам.
Кто выправил ему подложный паспорт. Почему в нем он был именован раскольником. Что за поручение он выполнял, собираясь, как он сам показывал на дознании, явиться в Симбирскую провинциальную канцелярию для определения к жительству на реке Иргизе. Может, раскольники уже имели на него виды.
Стало быть, версия первая. Пугачев ставленник старообрядцев-раскольников. Находясь в оппозиции официальной Церкви и правительству, они замыслили поднять в России мятеж с целью ослабить центральную власть, показать свою силу и затем потребовать прекращения гонений и разрешения свободно исправлять их веру. Центр старообрядческой эмиграции близ местности Ветка в Литве на территории Речи Посполитой, вероятно, обладал в России собственной агентурной сетью, одной из точек которой были раскольничьи поселения на Иргизе.
Пугачев был выбран как один из подстрекателей или (и) вожаков раскольничьего мятежа, и на Иргизе, скорее всего, должен был получить поддержку деньгами и людьми. Что за ним могли стоять весьма могущественные силы, доказывает побег, устроенный Пугачеву из казанского каземата. После того, как с Пугачева сняли колодки, он был помещен в общий каземат, где содержался вместе с другими арестантами без особых предосторожностей. Его не только посылали на всякого рода казенные работы, но под охраной одного-двух гарнизонных солдат выпускали на казанские улицы да церковные паперти просить милостыню себе на пропитание, а так же, как писал в своих Записках о Пугачевском бунте сенатор П.
С. Рунич, посещать в домах купцов и прочих граждан. Павел Степанович Рунич знал, о чем говорит, ибо в начале 1774 года, будучи майором, был включен в состав особой Секретной Комиссии по делу Пугачева. Знал, о чем говорит и сенатор А.
А. Бибиков. 19-го июля, за три дня до получения приговора, утвержденнаго в С. Петербурге, писал он, по безпечности и слабому присмотру, с помощью раскольничьяго попа подговорив стоящаго у него на карауле часового Пугачев месте с ним бежал.
Историк и бытописатель Казани А. И. Артемьев, служивший библиотекарем Императорского Казанского университета и имевший доступ ко многим материалам, коего не имел А. А.
Бибиков, писал совершенно независимо от него следующее: Пугачева не только посылали на разныя казенныя работы наравне с простыми колодниками, но выпускали также ходить по городу для сбора милостыни и к разным благодетелям. Благодетелей же он приобрел себе довольно, потому что, как говорил впоследствии, вел порядочную жизнь, вина тогда не пил и временем молился Богу, почему прочие колодники, также и солдаты, почитали его добрым человеком. От этого и подаяния ему делались значительные: некоторые вдруг по рублю и больше, спрашивали при подаче именно: кто, де, здесь Емельян Пугачев. вот, де, ему рубль.
Таким образом у него постоянно водились и порядочныя деньги. Особенным благотворителем для него был зажиточный казанский купец Василий Григорьев Щелоков, ревностный раскольник приятель Иргизскаго игумена Филарета Щелоков не только присылал ему неоднократно милостыню, но хлопотал за него у губернатора и давал взятки секретарю. Чрез Щелокова он подбился в милость к другому важному раскольнику, Московскому купцу Ивану Иванову Хлебникову, который также обещал ходатайствовать об его освобождении. Секретарь губернаторской канцелярии даже положительно обнадеживал в этом Пугачева: Будет, мой друг время говорил он ему.
Законнаго освобождения не последовало; но льготы и послабления в содержании открыли Пугачеву возможность побега. В числе арестантов был купец из пригорода Алата Парфен Дружинин, содержавшийся по каким-то казенным изысканиям, но ожидавший себе наказания кнутом и ссылки, отчего и поговаривал: Бежал бы куда ни есть, только не знаю, где скрыться будет. С ним особенно сдружился Пугачев и поддержал в нем мысль о побеге, утешая: Если бы, де, можно было отсель уйти, как бы я тебя вывел на Дон, а там бы верно нашли место, где прожить. Дело было полажено тем скорее, что содействовать побегу согласился еще один из солдат, в котором Пугачев заметил малороссийскую наклонность к неудовольствию в его жизни.
Дружинин поручил своему сыну приготовить лошадь и кибитку и в назначенное время поджидать их. Утром 28-го мая, Дружинин с Пугачевым отпросились у караульнаго офицера к одному знакомому попу для получения милостыни. Провожатыми их были два солдата, из которых один, как сказано, сам участвовал в замысле. Попа, однако, они не застали дома и потому возвратились в острог, а потом, часа через два, в обед, опять отправились к нему.
На этот раз поп оказался дома, радушно принял колодников и их конвойных и на данныя Дружинным деньги купил вина и меду. Заговорщики пили умеренно, а более старались подпоить не согласнаго к побегу солдата, и вполне достигли своей цели. Тогда они распрощались с попом, сказав, что идут в острог; поп проводил их за ворота и хлопнул за ними калиткой. Как же скоро вышли, то сын Дружинина на одной лошади, запряженной в кибитку, едет на встречу, к которому Дружинин, хотя и знал, что сын его едет, но чтоб отвесть в смотрителях подозрение, закричал: Ямщик, что возьмешь довезть до острогу.
А сын сказал: Много ли вас. А как ему сказано, что четверо, то запросил 5 копеек, за которую плату все четверо, а сын Дружинина пятый, и сели, и покрыл тот мнимый для других извозчик, привязанною к кибитке рогожкой, и так поехали, говоря несогласному солдату к побегу, что едут в острог. А как закрытые все рогожкою едут долго, то солдат спрашивал: Что, де так долго едем. На что ему Пугачев отвечал: Видно, де, не в ту дорогу поехали.
Когда же выехали на Арское поле, то рогожку открыли, и солдат удивился, что за чудо, и спрашивал, зачем выехали из Казани. Оставайся, де, с благополучием. А сами в путь поехали; онаго солдата отнюдь не били Такия подробности о побеге сообщил сам Пугачев, когда его допрашивали 16-го сентября 1774 года в отдельной секретной комиссии в Яицком городе. Другой казанский летописец, Николай Яковлевич Агафонов, сообщал, что после побега Пугачев какое-то время скрывался в приказанских слободах Кирпичной и Суконной у опять-таки купцов-раскольников Крохина и Шолохова (может, Шолохов и Щелоков есть одно лицо.
). У Шолохова он посещал мельницу на Казанке, где была тайная молельня, а у Ивана Крохина, имеющего собственный дом с садом прямо под Первой горой, на которую ведет ныне улица Ульяновых, какое-то время даже пожил. Дом Крохина стоял недалеко от Георгиевской церкви, и в его доме так же была тайная молельня раскольников, а в горе за домом купца оборудованная для жилья пещера, где были в наличии даже радиусные шкафы, в которой укрывали Пугачева. Отсюда же, смыв в баньке тюремный дух и одевшись в цивильное, Пугачев отправился куда бы вы думали.
в раскольничий скит на реке Иргиз. Более того, он опять был снабжен письменным видом, сиречь паспортом, добытым, очевидно тем же Крохиным. И не просто отправился, а его отправили тайными отработанными тропами, переправив через Волгу и сдав с рук на руки настоятелю старообрядческого Средне-Николаевского монастыря Филарету. Об этом пишет в своих Записках П.
С. Рунич. А вот из монастыря вышел уже иной человек, Пугачев 2. Почему раскольники устроили побег Пугачеву.
Чем обуславливалась такая забота о нем. Ответ напрашивается сам собой: на Пугачева была сделана ставка, возложена миссия. И он вскоре начал ее выполнять, для чего и были совершены раскольниками все действия, описанные в этой главе: в сентябре 1773 года он объявил себя императором Петром III. Побегом и доставкой Емельяна Ивановича в Филаретовский монастырь не исчерпывались благодеяния раскольников.
Их усилиями, а, точнее, подкупом должностных лиц, донесение о побеге было составлено лишь 21 июня. И еще семь дней пролежало не отправленным, что дало Емельяну Ивановичу месячную фору. Да и потом распоряжения о поимке беглецов по ошибке были разосланы по таким местам, где Пугачев ну никак не мог оказаться В августе 1773 года из Средне-Николаевского монастыря в сопровождении нескольких монахов тайно вышел человек, получивший напутствие от самого настоятеля Филарета. Вскоре он был переправлен через реку Иргиз в степь и взял путь на Яицкий городок.
Был он быстроглаз, проворен, широк в плечах и чем-то походил на беглого донского казака Емельяна Пугачева. Только был человек сей пониже ростом и много моложе НЕКТО ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ (Продолжение) Помните, я просил запомнить из показаний жены Пугачева: что росту он был среднего, а возрасту лет сорок. И обратить внимание на год рождения Пугачева, которое совершенно конкретно дает сенатор А. А.
Бибиков 1729. Сын генерал-аншефа самостоятельно занимался изысканиями о Пугачеве (еще до А. С. Пушкина), и о номере первом написал еще кое-что: Дерзкий же самозванец Пугачев был смугл, довольно велик ростом и весьма крепкаго сложения.
А вот что написал академик Петр Иванович Рычков, лично видевший уже арестованного самозванца, то есть Пугачева 2: Глаза у него чрезвычайно быстры, волосы и борода черные, росту небольшаго, но мирок в плечах Согласитесь, данные Бибикова и Рычкова о Пугачеве совершенно не сходятся: довольно велик ростом и росту небольшого совершенно разные вещи. Да и средний рост у Софьи и небольшой то, есть, малый, у Рычкова тоже не есть одно и тоже. Еще замечание. Официальная версия гласит, что Пугачев родился в начале 40-х годов XVIII столетия.
Сегодняшние энциклопедические словари, поддерживающие эту версию, пишут следующее: Пугачев Ем. Ив. (1740 или 1742-1775) Выходит, в 1774 году, когда допрашивали Софью Пугачеву, ему было чуть за тридцать. А она заявила лет сорок, то есть, примерно, 38-43 года.
Есть разница с возрастом 31-33 года. Есть. Это почти десять лет. Так ошибиться Софья Дмитриевна никак не могла.
Бибиков, докопавшийся до отца Емельяна Ивановича и весьма уважительно о нем написавший, сообщает, что казак Иван Измайлович убит турками в 1734 году. Как он мог народить сына в 1740-м. Но главное, Бибиков дает нам точную дату рождения Емельяна Пугачева 1729 год. Выходит, в 1773 году ему было 44 года, как, собственно, и следует из слов Софьи Дмитриевны.
Отсюда, версия вторая. Пугачев до побега из казанской тюрьмы и Пугачев после побега, а точнее, после его выхода из Филаретовской обители разные люди. Пугачев 1, настоящий, довольно высокого роста, и ему за сорок лет. Пугачев 2, подменный, роста небольшого, и ему чуть за тридцать.
Куда подевали настоящего Пугачева не столь важно. Может, он в последний момент чем-то не устроил своих покровителей, ведь по своим качествам он мало подходил на роль вождя. А может, он уже исполнил свою миссию, и его ликвидировали за ненадобностью. Так или иначе, через три месяца самозванец, объявивший себя государем Петром III поднимает все Яицкое казачье войско, берет одну за другой крепости и города, осаждает Оренбург.
Пугачев 2 разительно отличается от Пугачева 1 и по характеру. Это не прежний беспутный казак, а человек острого ума, сумевший заставить поверить в себя и казачьих старшин, и огромные массы народа, ведь в самое короткое время мятежное брожение умов охватило край, занимаемый нынешними губерниями Оренбургскою, Самарскою, Уфимскою, Казанскою, Вятскою, Пермскою, Тобольскою. Везде образовались шайки, предводители которых, титулуя себя атаманами, есаулами и полковниками государя-батюшки Петра Федоровича, распространяли Пугачевские манифесты, захватывали казенное имущество, грабили и убивали всех остававшихся верными законному правительству, писал Журнал министерства народного просвещения. Злодеев-дворян противников нашей власти и возмутителей Империи, гласил один из манифестов Пугачева, ловить, казнить и вешать Пугачев 2 подозрительно легко разбивает посланные против него войска и создает собственные органы управления, наподобие штабов и Военной коллегии, обладающей к прочему еще и судебными правами.
В его войске была железная дисциплина. (В Оренбургских записках Пушкина есть свидетельство, что в Татищевой (крепости) Пугачев за пьянство повесил яицкого казака). Кто надоумил его в этом. Ведь не казацкие же старшины, не его сподвижники типа генералов Чики Зарубина, начальника всех яицких казаков хромоногого Овчинникова, Чумакова или Творогова с Федуловым, которые впоследствии и повязали Пугачева.
Что они могли знать о структуре той же коллегии. Это могли ведать только профессиональные военные, и только они могли устроить в армии Пугачева нечто подобное. И таковые советники у государя Петра Федоровича были ПОЛЬСКИЙ СЛЕД В ослаблении России больше, чем кто бы то ни было, была заинтересована Польша, Речь Посполитая объединенное польско-литовское государство, подвергшееся разделу между Россией, Австрией и Пруссией в 1772 году. Поэтому версия третья: за спиной Пугачева 2 стояла родовитая польская шляхта, крайне желавшая устройства в России смуты для отвлечения внимания и сил от Речи Посполитой и, в конечном итоге, освобождения от ненавистного им короля Станислава Понятовского, ориентированного на Россию.
Все началось с сейма в Варшаве, на котором усилиями России был избран в 1768 году королем Речи Посполитой Станислав Понятовский. Оппозиционно настроенные польские вельможи составили в подольском городе Бару конфедерацию вооруженный союз польской шляхты против короля и, соответственно, России. Императрица, писал П. С.
Рунич, повелеть соизволила для усмирения и прекращения возникшей в Польше конфедерации (и волнения) вступить в оную своим войскам; ибо одни королевские не в силах были взволновавшиеся партии конфедераций низложить и прекратить; почему начались с обеих сторон военныя действия Вначале успеха в русско-польской войне не было никакого, и императрица ввела в Речь Посполитую новые силы. Это заставило обеспокоиться многие зарубежные правительства, в том числе австрийское, французское, прусское и шведское, из коих особливо первые два двора все употребляли интриги возбудить Порту, яко соседственную Польше державу, объявить России войну, чтобы тем подкрепить в Польше конфедерацию. (Русская старина, СПб. , 1870, т.
II, примечания, стр. 127-128). И это им удалось: в ноябре месяце 1768 года Турция объявила России войну, окончившуюся 10(21) июля 1774 года подписанием выгодного для России Кучук-Кайнарджийского мира. В 1772 году так называемая Барская Конфедерация сложила оружие.
Но не сложили оружие конфедераты. Когда Турция объявила России войну, один из главных действующих лиц королевской оппозиции, старший из братьев Пулавских с отрядом конфедерационнаго войска оставя свое отечество перешел с оным, как писал П. С. Рунич, к Порте, находясь при турецкой армии всю войну; младший Пулавский, сосланный в Казань, как военноепленный в 1772 году, жил в губернаторском доме, был принят фон Брантом, как писал А.
С. Пушкин в примечаниях к своей Истории Пугачева, как родной и владел всей информацией по состоянию дел в Казани, очевидно, уже интригуя в пользу Пугачева, когда вдруг скоропостижно скончался 9 апреля 1774 года главнокомандующий военными действиями против самозванца генерал-аншеф Бибиков, и возникло, как писал его сын, разногласие между начальниками и нерадивое исполнение между подчиненными. Пулавский-младший немедленно дал знать об этом Пугачеву и, вероятно, призывал его взять Казань, справедливо полагая это вполне возможным. И самозванец, захватив Троицк и Осу, переправился в июне 1774 года через Каму и, взяв Сарапул, Мензелинск, Заинск и Елабугу, стал подбираться к Казани.
После ее взятия 12 июля, Пулавский-младший был принят с почестями в войско Пугачева, где уже находились в качестве советников пленные иностранные офицеры, объединенные ненавистью к России. (Ох, не спроста все таки бежал Пугачев именно в Речь Посполитую. Да и после, на Иргизе, он был привечен настоятелем монастыря Филаретом тоже не спроста, ибо был сей Филарет выходцем из Польши, как и кое-кто из монастырской братии. А не были ли связаны барские конфедераты с раскольниками на почве оппозиционности официальному православию и российскому правительству.
Тогда в деле Пугачева это многое бы проясняло). Так же другой виднейший конфедерат Потоцкий, разбитый русскими войсками, бежал в Венгрию, и австрийский двор предоставил ему полную возможность интриговать из-за границы в пользу Пугачева. А первый польский вельможа, магнат князь Радзивил, тоже плененный и содержавшийся с величайшим уважением под присмотром генерал-майора Кара в Калуге, мог вообще купить пол-России. Скорее всего, начал он с генерал-майора Кара.
Этот умный и мужественный военачальник, уже приобредший, как писал А. И. Артемьев, большую известность своими воинскими способностями, был отозван из Калуги и высочайшим указом от 14 октября 1774 года назначен командующим войсками, собранными против Пугачева из Петербурга, Новгорода и Москвы. И сразу же, растеряв вдруг свой воинский талант, повел себя против самозванца нерешительно, стал терпеть одно поражение за другим и в конечном итоге бросил свое войско, под предлогом во всех костях нестерпимаго лома, вполне отдавая себе отчет, что ему впоследствии грозит.
Как гласил Указ Военной коллегии от 30 ноября 1773 года, в самое то время, когда предстал подвиг должному его к службе усердию и мужеству, он, о болезненном себе сказавши припадке, оставил известной ему важности пост, сдал тотчас порученную ему команду и самовольно от оной удалился Почему он из воинского стата и списка выключен. Сбежав от войска, Кар препоручил оное генерал-майору Фрейману, но тот стал повторять все ошибки Кара. Удивляться тут особо было нечему, после Кара именно генерал Фрейман приглядывал за князем Радзивилом в Калуге. Вообще, в главных очагах мятежа Оренбургской и Казанской губерниях, было много высланных из Польши конфедератов.
Несомненно, писал Журнал министерства народного просвещения, что некоторые из конфедератов чрезвычайно деятельно интриговали в Казани, а другие пристали к шайкам Пугачева и явились ловкими их руководителями. Насколько большое влияние конфедераты имели на самозванца остается невыясненным, но что таковое имело место, я не сомневаюсь совершенно. Правда, тогда у них получилось не очень, зато приобредшая опыт Польша попыталась повторить это в России в 1863 году, когда в Казани была совершена попытка вооруженного восстания в поддержку Польского восстания 1863-1864 годов. Кстати, тоже неудачная.
Ну, не ладились заговоры у поляков, и не они дергали за веревочки Пугачева 2. Была еще одна сила, более мощная, о которой будет рассказано в главе Французский след. Что же касается командования военными силами, сражавшимися против самозванца, то после генерала Фреймана специальным рескриптом императрицы от 29 ноября 1773 года начальником военных действий против Пугачева был назначен Александр Ильич Бибиков, генерал-аншеф, купить коего было нельзя. А вот убить оказалось возможным ОН БЫЛ ИСКУСНЫЙ ВОЖДЬ ВО БРАНЯХ Человек, о котором пойдет речь, принадлежал к самым выдающимся именам эпохи Екатерины Великой.
В блеске деяний, знаменитости подвигов а, стало быть, и славе он уступал многим, но ни один из них не превосходил его в самоотверженности, бескорыстии и любви к Отчизне. Имя этому человеку Александр Ильич Бибиков. Бибиковы происходили по линии мужской от крымских беков, родственных ханам из так называемой Синей Орды. Родоначальник фамилии Бибиковых Жадимир выехал из Орды в Россию еще в начале XIII века.
А Иван Григорьевич Бибиков в 1555 году успешно бил шведов, будучи главным воеводой русского 30-тысячного войска. Александр Ильич родился в Москве 30 мая 1729 года в семье инженер-генерал-поручика, который записал его в 1744 году кондуктором в Инженерный Корпус. Саша жил и воспитывался дома, служба шла, но в июле 1746 года он был произведен в инженер-прапорщики и переведен в Санкт-Петербург. Здесь юность, пылкость нрава, праздность и отдаление от близких родственников, писал в своей книге его сын сенатор А.
А. Бибиков, вовлекли его в опасныя общества. Он начал было посещать трактиры и картежные собрания Отец, узнав об этом, добился разрешения отозвать его в Москву, что и случилось в 1748 году. В 1749-м, после прочувствования им всей неблаговидности его прежнего поведения, он был командирован к строительству Кронштадского канала, в том же году получил подпоручика и был переведен в артиллерию, а в 1751 году был пожалован порутчиком артиллерии и аудитором.
Исполняя волю отца, Александр Ильич в 1751 году вступил в брак с дочерью его друга, княжной Анастасией Семеновной Козловской, которую со временем полюбил и сохранил во всю жизнь свою, по словам А. А. Бибикова, нежнейшую к ней дружбу, доверенность и уважение. С 1752 года он стал выполнять важные поручения за границей так успешно и расторопно, что чины и награды посыпались один за другим: обер-аудитор, обер-квартирмейстер, подполковник, начальник 3-го мушкатерского полка.
В таком качестве он и вступил в Семилетнюю войну весной 1758 года. Уже в августе Бибиков отличился со своим полком в знаменитом сражении под Цорндорфом, после которого прусский король Фридрих II изрек следующую фразу: Русского солдата убить можно, но способа победить и принудить его к отступлению я не нахожу. Сражение под Цорндорфом вошло в историю Семилетней (1756-1763) войны как очень кровопролитное и жестокое. Полк Бибикова потерял убитыми и раненными 60 офицеров и более половины рядовых.
Но стоял насмерть. Мужество полка было отмечено самой императрицей Елизаветой Петровной, сам командир был в начале 1758 года пожалован чином полковника. Вторично отличился полк Бибикова 1 авг
Статья взята с: http://www.liveinternet.ru


